Велики Великие. Юбилейные хроники в новом прочтении - страница 6
Кто из нас, сегодня живущих на многострадальной русской земле, не использовал порою, если требовалось урезонить, скажем, какого-либо охламона или призвать к исполнению долга зарвавшегося человека и т. д. и т. п., – такой вот веселый и разудалый аргумент: «А кто за тебя будет это делать? Пушкин?..
Пушкин… «Наше все», «русский человек в его развитии», с его «всемирной отзывчивостью». Пушкин… «Чрезвычайное явление русского духа», творец, обозначивший свою гениальную способность «перевоплощаться в гении чужих наций». Это лишь толика из характеристик, данных «солнцу русской поэзии» великими мыслителями и художниками. В нашем случае А. Григорьевым, Н. Гоголем, Ф. Достоевским.
Добавлю: пытаясь осмыслить деяния Александра Сергеевича, высказывался о нем, наверное, на российской земле «…всяк сущий в ней язык»[3]. В большинстве своем – по-разному. И, как не парадоксально, каждого по-своему можно признать правым.
А что вы хотите? Если Пушкин – солнце, то греет всех. Как солнце Нового Завета, которому Отец небесный «повелевает восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Евангелие от Матфея).
О величайшем поэте сказано, кажется все, что можно сказать. Пушкиниана только у нас превышает даже Лениниану, к сожалению, ныне сброшенную с корабля современности. Но ведь и Пушкина пытались сбросить… Так что же, мы, убогие и сирые, можем добавить к поведанному и осмысленному миллионами и миллионами. Вряд ли что. Разве – зафиксировать хотя бы одну точечку в «пушкинском чуде», взять одно горчичное семечко, из которого непременно вырастет могучее древо. Например, его «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам»[4]. И, как следствие, любовь к деревне – приюту «трудов и вдохновенья». Заметьте, приюту в первую очередь «трудов», а уж «вдохновенья» потом. Не говорите, что у поэта такой порядок обозначился случайно. Для рифмы, мол, нужно было. У Пушкина ничего случайного нет. Он и сам не верил в случай, считая его «мощнейшим, мгновенным орудием Провиденья».
Нам, выросшим, сформировавшимся в подлинном смысле на земле, в деревне, где образом жизни был труд, а результатом – насущный хлеб и песня – праздник труда и души, – все это понятно и близко. Кстати, именно на сельском материале в повести, с каким, думаете названием? – «Барышня-крестьянка», ответил Александр Сергеевич на сжигающий сознание нынешних верховных правителей и общественных деятелей вопрос: каким путем идти России? Западным или закоренелым, дедовско-русским?
Между прочим, «неистовый Виссарион» – Белинский, чей взгляд на Пушкина усилено внушался советским гражданам, «Повести Белкина», куда входит «Барышня-крестьянка», считал недостойными пера гения. Мы, конечно, в целом очень ценим Виссариона Григорьевича как литературного критика, (пушкинского «Евгения Онегина» энциклопедией русской жизни называл), но как демократа, да еще революционного?… Апассионариям такого порядка знаем, только бы российское хаять, да Америку догонять, «не запрягая долго». Где уж тут до пушкинского: «Служенье муз не терпит суеты»[5].
Додогонялись… И теперь вот, нет, чтобы переливать золото на звезды героев для крестьян-кормильцев, как советовал патриарх колхозный Макар Посмитный, стали драгметаллы и другие природные ресурсы, чем щедро и справедливо одарил нас Господь Бог, отдавать иноземцам за прогнивший харч и тряпки. Как туземцы, меняем на стеклянные бусы червонное золото.
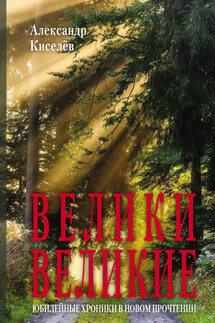
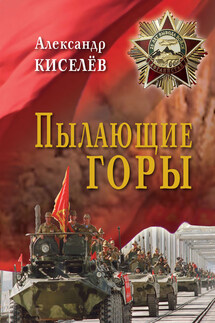

![Bo][ing Day истребить «колхозника»](/uploads/covers/fe/bo-ing-day-istrebit-kolhoznika.jpg)



