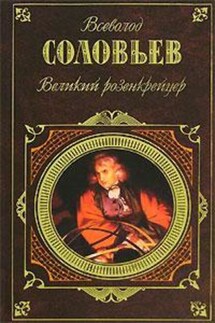Великий розенкрейцер - страница 30
Несколько раз приходилось ему, благодаря своему «чудачеству» и непониманию, наживать себе большие неприятности и подвергаться гневу начальства. В таких случаях что он делал? Да ровно ничего, молчал, не защищался и не оправдывался, вообще держал себя так, как будто дело его вовсе не касалось. Не приходи она всякий раз ему на помощь, он бы теперь, несмотря на свои отношения к князю Захарьеву-Овинову, которыми вдобавок никогда не пользовался, был бы уж, пожалуй, лишен прихода. Местное духовенство его почему-то недолюбливало, и вообще врагов у него оказывалось немало. Но она, узнавая о грозящей неприятности, начинала действовать: ехала в город, находила доступ ко всем нужным лицам, умела поговорить с ними и возвращалась домой, отстранив неприятность. Она принималась очень горячо, даже чересчур горячо, объяснять мужу, чем он ей обязан. Выражал ли он ей, по крайней мере, свою благодарность, ценил ли ее? Ничуть.
Так было всегда. И вдруг все изменилось. Отец Николай, никогда почти и в город-то не ездивший, собрался и уехал в Питер. При этом он выказал непреоборимую решительность, о которую разбились все усилия, доводы и натиски Настасьи Селиверстовны.
– Князь болен, умирает, ему тяжко, я должен его видеть, потому и еду, – объяснил отец Николай, и больше от него ничего нельзя было добиться. Пришлось его отпустить и снарядить в дорогу, что Настасья Селиверстовна и сделала со всей своей привычной добросовестностью и заботливостью. Провожая мужа, она наказывала ему не мешкать в Питере и возвращаться как можно скорее во избежание неприятностей с начальством.
– Ни дня не медли, – повторила она, – сам знаешь, рады будут тебе ногу подставить, так ты на это не напрашивайся.
– Там видно будет… все образуется… – как-то загадочно, будто про себя, говорил отец Николай.
И вот стали проходить недели за неделями, а его все нет. Настасья Селиверстовна рвала и метала, ждала его ежедневно, боялась, что вот-вот и скажутся последствия его долгой отлучки – назначат нового священника. Что тогда? Но ничего подобного не случилось, и она поняла, что князь все устроил, что пребывание отца Николая в Питере не ставится ему в вину начальством. Тогда в ней поднялась досада, которую она достаточно ясно и высказала в своей беседе с мужем.
Но теперь была уж не досада, а явившееся сознание, что происходит нечто непостижимое, что их роли изменились. Здесь, в Питере, в этой чудной столице, где все для нее – диво, где, несмотря на всю свою душевную крепость, она невольно робеет, где она – ничто и сама себе кажется совсем не на месте, он, ее муж, «юродивый самодур», как она его очень искренне называла, он у себя дома, на своем месте. Ото всех ему почет, всем он нужен, все его на руках носят! Вот уж и боярышни-красавицы, каких она отродясь не видывала, к нему прибегают да с ним о своих делах тайных совещаются! Этого только недоставало! А жену – вон! Не мешай, мол, незваная помеха!..
Конечно, тут же Настасья Селиверстовна соображала, что он – священник, что ничего нет предосудительного в том, если к нему хоть бы и боярышня-красавица обратится за советом, за утешением, и что в таком случае их беседа должна быть наедине… Но именно то обстоятельство, что во всем этом нет ничего предосудительного, и доводило ее до нестерпимого раздражения.
«Какое лицо у него стало, как он увидел эту красавицу!.. И она тоже вся так и просияла… А он-то, он-то: за плечо ее… Сердце, мол, сердцу весть подает… кабы не ты ко мне, так я бы к тебе!.. А, каково! Я-то ведь тут… и на меня, будто на собаку: вон пошла!..» – вот в такую определенную форму вылились наконец все помышления и чувства матушки.