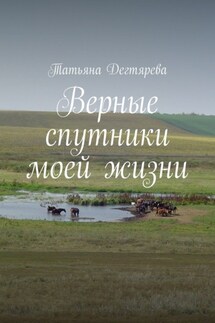Верные спутники моей жизни - страница 2
С большой авторской симпатией представлены в повести веселые и неразлучные алтайские друзья Карышев и Малышев. Основательные, надежные и в то же время озорные, они были не заменимы ни в одном деле, которое выпадало совершить их подразделению.
Взводный философ Корней Аркадьевич Ланцов. В рассуждениях этого умного и добротно образованного человека неизменная глубокая оценка всего происходящего. Всё его внутреннее существо сопротивляется происходящему.
«Варварство! Идиотство! Дичь!… Глухой Бетховен для светлых душ творил, фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц. Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворовал. Когда припрет – он их в печку… И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы!».
Каждый раз удивляет неожиданное и всегда такое точное слово или определение Астафьева, например, «Шкалик». Словно и не было имени у этого совсем ещё мальчика – просто Шкалик, и всё понятно. Случайно заброшенный в военное пекло, трогательный и забавный в своём желании быть, как взрослые, он так или иначе и в тяжелейших обстоятельствах старается держать марку полноценного бойца.
Теплыми красками подан в повести и командир роты Филькин, смелый, честный и бескомпромиссный боевой офицер, приказы которого не обсуждались: «У меня чтоб через час всё на исходных были! И никаких соплей! Бить фрица, чтоб у него зубы крошились! Чтобы охота воевать отпала…».
[Был во взводе и некий кум-пожарник «прицепистый, недовольный оттого, что с хорошей службы слетел». Его не любили. И, как оказалось, неслучайно. Он почти и не скрывает, что в довоенном прошлом был образцом «сознательности», попросту доносчиком. Через Пафнутьева автором выведен образ тех блюстителей «порядка», которые и на войне находили применение своим нечистоплотным способностям.
На страницах, посвященных бою, нельзя не заметить и эпизодически появлявшуюся медсестру. Перемерзшая, с распухшими веками, багровыми щеками, «словно бы присыпанными отрубями», с потресканной кожей. Некрасивая. Но сколько за этим неприглядным лицом непоказного мужества и редкой отваги. И так ощутима боль и мужская сокрушенность за словами автора об этой девушке.
И, наконец, главный герой повести, командир взвода Борис Костяев, 19-летний, но такой ответственный в своих поступках, такой внимательный к каждому своему бойцу. Сын скромных школьных учителей из Сибири, представителей той самой уникальной когорты подвижников нравственности, для которых «родина», «честь», «долг» – их религия, основа их духовного императива. В таком же духе нравственного стоицизма растили они своих учеников и прежде всего собственного сына, единственного, поздно рожденного, долгожданного. Его не жалели, закаляли и тело, и дух, учили быть готовым ко всякого рода трудностям. Но ни в каких самых страшных снах не привиделось бы этим честным и чистым людям, какое испытание выпадет на долю их сына.
«Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревущего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатилась на траншею темная масса из людей. С кашлем, с криком, с визгом хлынула на траншеи эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъяренными отчаяньем гибели волнами всё сущее вокруг.