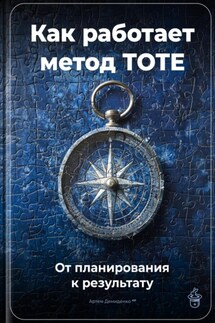Вещая моя печаль. Избранная проза - страница 4
Летом приезжают городские, особенно московские дачники, как они удивляются, заслышав нашу забавную речь, перевитую не матерными словами, а словами житейскими, корневыми. Так, должно быть, этнограф Миклухо-Маклай заслушивался речью аборигенов Гвинеи. Горожан поражает щедрость деревенских обитателей, простота, наивность. Придёт в дом горожанка луковицу попросить, а ей хозяйка «чельну» зобеньку луку навалит, чаем напоит, пожалеет горожанку. «Пожалиёшь» – станет горожанка скудости избы завидовать – решительно нечего тут ворью делать, то и замков в деревне нет, а у «…меня квартира трёхкомнатная, диваны по сто тысяч, украшений на полмиллиона…» – «…можот, дева, не тронут. Нащо жо стоко заводить-то?»
Исчезают ремёсла – исчезают слова, выражения, исчезает живая связь поколений. Много в нашей державе гулящего люда, трудно искать «родину» того или иного слова. Вроде наше, вроде и не наше вовсе, и носителей говора остаётся всё меньше и меньше. Диалектное слово – это глубь веков, этнос. Откуда мы пришли и куда идём? Почемуурочища носят такие названия, вятичи мы или чудь белоглазая, новгородцы или ростовцы?
Что такое литература? Ходули, ложно-классические ходули. Русские, американские, китайские, но – ходули. Любой писатель пытается сойти с них, ищет что-то своё, пусть даже аллегорический эпос, ищет художественную полноту, меткость слова, детальность, а вот говор искать не надо, он передаётся с молоком матери. Говор любой отдельной местности – это поразительное богатство языка; наши предки были настоящими художниками, жили в гармонии с природой, в ладу с Богом и духами, они ввели в говор малейшие оттенки многолетних наблюдений, впечатлений, передали нам особенные слова и выражения: владейте! И не забывайте!
Живая непосредственная действительность, быт, личные воспоминания – это не творческая фантазия. Сколько в любом диалекте глубокой, своеобразной, потрясающей поэзии, мощи, трагизма, чарующего великолепия! Старые слова – это памятники былого, это наши кресты на могилах предков.
В деревне всё на виду и все на виду: зло и источник зла, совестливость, стыд, едкая горечь, беззаветная удаль, терпение, богатство, бедность; да что перечислять-обобщать, что смотреть на угасающую свечу, – чтоб знать деревню, надо говорить на её языке, жить её заботами, её радостью и болью, её «уставом», помнить и передавать по наследству.
Жить нищим – трудно, стыдно и… гадко.
Во времена ныне презираемого брежневского застоя страна жила надеждами: колхозник паспорт получил! Крышу шифером закрыл!.. А какая удивительная тяга была у народа к чтению! Магнетизм какой-то. Читали в самолётах, в автобусах, читали, загорая на Ялтинском берегу, читали в космосе, – везде. В каждую деревню почтальонки носили тяжёлые сумки, мужики пахали землю и читали, жали хлеб и читали…
Помню, я подписывался в год рублей так на 130, выписывал «Роман-газету», «Вокруг света», «Техника и вооружение», «Сельский механизатор», «Проблемы мира и социализма»; да разве все издания вспомнишь? Нынче подари соседу книгу, спроси недели через две, прочитал ли? Да, скажет виновато, не всю. Он, эту книгу, вряд ли прочитает от корки до корки, его ждёт «ящик», ждёт 600 программ, – заболит палец переключать. Чтобы, сидя у «ящика», валенки починить, – да ты что, и ниток нет, и шило сломалось, и вообще, – вылезет нога из валенка – выброшу рваный, да новый куплю. Однажды я оставил автограф хорошей женщине: