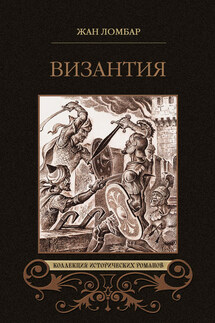Византия (сборник) - страница 55
Конечно, его мысль, туманная для всех, была ясна ей, Сэмиас, потому что каждое действие Элагабала, посвященное торжеству Черного Камня, было вдохновлено Атиллием, которого она видела на тайных совещаниях, где сама присутствовала для одобрения его действий. Ему был обязан Рим похищением священных Щитов, огня Весты и Палладиума. Ему был обязан Рим и тем, что город превратился во всемирный лупанар, где женщина отдавалась мужчине, ставшему андрогином; и при этом ни женщина, ни мужчина, которые навсегда бы могли проникнуться отвращением к акту любви, не сознавали этого всеобщего переворота. Атиллию же Рим был обязан и зрелищем бракосочетания Луны и Солнца, то есть двух форм жизни, отныне слитых, как он хотел бы слить и оба пола. Как велик этот Восток, полный Солнца и золота, пахучих цветов, пышных религий, необъятных наслаждений! Восток, отразившийся в душе Атиллия, более победоносного, чем цезарь, заставившего землю преклониться пред одним божеством, но живым – ее сыном Элагабалом Антонином, основателем блистательной грядущей – и последней для человечества, – династии императоров Черного Камня.
И, как женщина неуравновешенная, что во многом объяснялось неупорядоченным образом жизни, но при этом ободряемая снисхождением к нему обитателей Дворца, она поклялась себе щедро, как только может мать императора, вознаградить того, кто приведет Атиллия в ее благоухающие финикийскими ароматами объятия, на ее грудь, уже предвкушающую наслаждения. Как бы поспешно она сейчас, в этой комнате, сбросила с себя ожерелья из бирюзы и жемчугов и браслеты с рук, и с каким бы наслаждением, осушив золотые чаши, она, нагая, отдалась бы ему на этом ложе, пропитанном шафраном и вербеной! И среди бесконечных, никогда не удовлетворенных порывов сладострастия он забыл бы Мадеха, а она, властительница империи, уже в эту ночь в эротическом исступлении бегала бы за мужчинами, подобно Мессалине, другой императрице, служившей ей примером.
Издалека, совсем издалека до нее долетел звук поцелуев, затем юный голос, быть может, голос девы, отдающейся какому-нибудь мужчине. Из недр гинекея исходил этот крик страсти, подобный радужному цветку вечно активной любви, которую он заключал в себе. Охваченная истомой, Сэмиас медленно шла сквозь ряд комнат, украшенных мозаикой и золотом и ведущих к портикам, под которыми разгуливали, сверкая, чванливые павлины. Она увидела в глубине одного из дворов башню, украшенную драгоценными камнями, покрытую ценными металлами. Когда-то Элагабал приказал воздвигнуть эту башню, чтобы броситься с нее в тот день, когда римский народ захочет отнять у него власть. Теперь башня одиноко возвышалась, подобная громадному фаллосу, в варварском сверкании ониксов, сардониксов, агатов, аметистов, хризолитов, перламутра и кораллов, с занавесями багряного и пурпурного цвета, которые колыхались на вершине, как кровавые знамена. И горесть овладела ею. В ее памяти воскресла смерть императоров, брошенных в клоаки, заколотых и задушенных, вспомнились ей восстания преторианцев, потоки крови, краснее, чем занавески этой торжественной и немой башни, резня людей и избиение мужчин и женщин, происходившие в дни таких событий. О, нет! Нет! И, освящая пороки Элагабала его величественным званием жреца, она думала, – как перед этим сестра ее Маммеа об Алексиане, – что этот дорогой Антонин, этот тихий отрок со спокойным ликом, эта молодая доблестная душа не может погибнуть. Мир не должен быть потрясен этой потерей, которая уже заранее возмущает и землю, и небо.