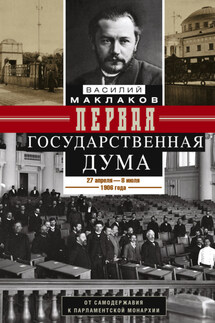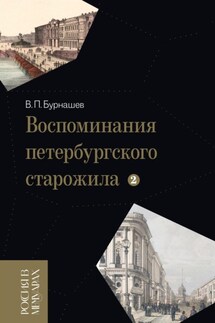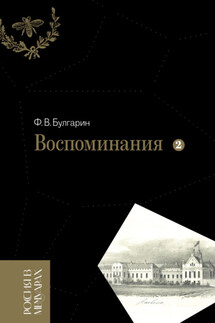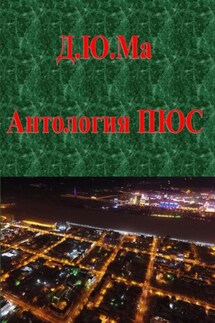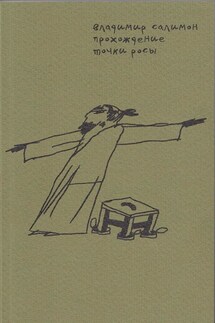Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника - страница 2
Первоначально Маклаков участвовал в Совещании бывших членов Государственного совета и Государственной думы (ноябрь 1920 г.) и в Совещании членов Учредительного собрания (январь 1921 г.). Однако «новая тактика» Милюкова и резкое поправение далеко не самых правых кадетов оттолкнули Маклакова от «родной» партии и способствовали его превращению в беспартийного общественного деятеля. Впрочем, Маклаков по-прежнему поддерживал отношения и с консерваторами, и с либералами, и с социалистами, чему способствовали как особенности его личности, так и обязанности начальника Центрального офиса по делам русских беженцев. В 1940–1944 гг., во время германской оккупации Франции, Маклаков участвовал в движении Сопротивления и 28 апреля 1942 г. был арестован гестапо, после чего провел пять месяцев в тюремном заключении. Во главе группы русских эмигрантов 12 февраля 1945 г. Маклаков не только посетил советское посольство в Париже и передал через посла СССР А. Е. Богомолова поздравления советскому правительству, но и провозгласил тост за победы Красной армии. В связи с этим 24 марта 1945 г. Маклакова избрали почетным председателем Объединения русской эмиграции для сближения с Советской Россией, однако вскоре он отказался от подобной идеи и покинул свой пост. Умер Василий Алексеевич от гангрены ног 15 июля 1957 г. в швейцарском Бадене, где и был похоронен первоначально, позднее его прах перезахоронили на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа близ Парижа.
В отличие от биографии В. А. Маклакова история создания впервые публикуемых в нашей стране его главных мемуаров – «Власть и общественность на закате старой России» – изучена явно недостаточно. Во многом это объясняется сложностью не только их истории и предыстории, но и тех конкретных, даже бытовых обстоятельств, в которых они создавались. Дело в том, что Маклаков не отличался совершенством почерка и вообще, несмотря на громадный объем его письменного наследия, был устным, а не письменным человеком и потому собственные тексты предпочитал не писать, а диктовать или, на худой конец, перепечатывать на пишущей машинке.
Обрисовывая свою творческую лабораторию, Маклаков признавался В. В. Шульгину в феврале 1924 г.: «Написать и отложить на некоторое время трудно, потому что через некоторое время я своего почерка не узнаю, мне приходится работать не отставая, покуда я не приведу работу в тот вид, в котором она может быть переписана. ‹…› В Петрограде у меня был диктофон, и я писал все при его посредстве, это была замечательная вещь. Но никакой переписчик, ни стенограф мне его не заменит. Во-первых, потому что стенограф имеет свойство уставать, что вообще человеческие силы имеют предел, который может не совпадать с моей усталостью, почему стенограф не всегда в моем распоряжении, как был диктофон, а во-вторых, что для настоящей интенсивной работы мне всегда мешает присутствие постороннего человека около меня»[8]. Так немаловажные детали эмигрантского быта оказывали влияние на творчество эмигрантов первой волны…
Работу над воспоминаниями В. А. Маклаков начал как бы случайно. В 1923 г. по просьбе издателя Я. Е. Поволоцкого он написал предисловие к парижскому переизданию беллетризованного дневника В. М. Пуришкевича, посвященного участию его автора в подготовке и совершении убийства Г. Е. Распутина[9]. Обращение Поволоцкого к Маклакову вызывалось тем, что, как явствовало из дневника, Маклаков участвовал в подготовке этого убийства, о чем он через пять лет рассказал более подробно в воспоминаниях, опубликованных на страницах самого известного эмигрантского журнала «Современные записки»