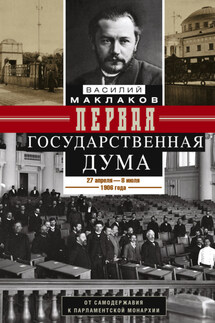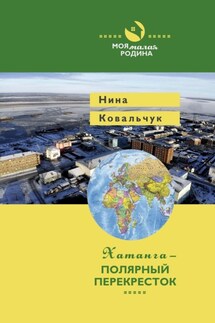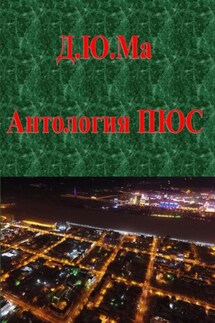Власть и общественность на закате старой России. Воспоминания современника - страница 28
У него был незаменимый помощник, без которого также трудно было себе представить больницу, как вообще «генеральскую» Россию – без щедринского «мужика». Это был больничный швейцар В. М. Морев – николаевский солдат, с четырьмя крестами и медалями на Георгиевских лентах. Кресты он получил за Венгерскую кампанию 1848 года[137] и за Севастополь[138]. Удивительные типы создавало то жестокое время! Морев был горд, что прожил всю жизнь солдатом при Николае; на новых солдат смотрел не без презрения: «Что они понимают!» Ему было уже тогда много лет, но он казался мощной фигурой, полным здоровья и сил, с поредевшими, но не седыми волосами, с большими усами и достойным представительным видом. Как его хватало на все? О меньшей братии тогда мало заботились. Не было ни американских ключей, ни электрических проводов; надо было ему самому открывать входную дверь. Он не ложился спать, пока все домой не возвратились. Мне случалось в студенчестве возвращаться под утро, и звонком я его подымал с деревянной скамьи, на которой он прикурнул. Если я был последний, он при мне уходил к себе спать. Сколько раз я пытался с ним сговориться, завести себе второй ключ. Он не хотел слышать про это; «что вы, помилуйте, я тут сплю отлично; а на мне вся больница». Действительно, двери нашей квартиры в швейцарскую не запирались, и теперь я не понимаю, почему мы не были дочиста обворованы и спали спокойно с охраной одного только Морева.
Ежедневное ночное дежурство не мешало Мореву раньше всех утром подняться. Если кому-либо надо было рано вставать, то достаточно было попросить Морева вовремя разбудить; он не проспит и не забудет. Все наперебой давали ему поручения, далеко выходившие за пределы его обязанностей. Не было случая, чтобы он от чего-нибудь отказался или чего-нибудь не умел. Когда его спросишь: «Можешь ли это сделать?» – он презрительно отвечал: «Николаевский солдат, да не может?» И он все умел, портняжил, сапожничал, столярничал, клеил и т. д. Когда я поступил в гимназию и в первый раз шел на урок, Морев внимательно осмотрел мою обмундировку, многого не одобрил и переделал. Переменил ремни на ранце, в незаметных местах шинели вшил лоскутки с фамилией, чтобы пальто не подменили. Он повсюду искал сам работы; не мог оставаться без дела. В праздничные дни, когда больничная церковь наполнялась московским beau monde’ом[139], он с искусством, без номерков, умел всех запомнить, узнать и подать каждому его шубу.
Ребенком я расспрашивал Морева про войну; допытывался, случалось ли ему убивать человека? Он вспоминал неохотно и от прямого ответа отвиливал: «Лучше не спрашивайте». Зато рассказывал про дисциплину, про строгости; описывал, как наказывали шпицрутенами; но вспоминал все без озлобления. «Много нас учили, но зато уже и научили. Где вы найдете человека, как николаевский солдат? Разве теперешние в четыре года могут чему-нибудь научиться?»