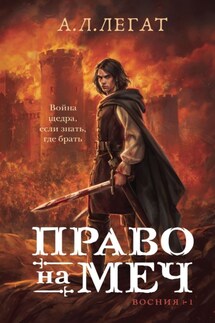Волчица и Охотник - страница 17
Пехти пахнет зелёной гнилью сырого дерева, покрытого плесенью, умирающего. Пытаюсь задержать дыхание.
Он бормочет что-то на древнерийарском, поднимая здоровую руку, а вместе с ней и мою, чтобы стереть с подбородка рвоту.
Отвращение цепляет меня рыболовным крючком, переплетаясь с чем-то худшим, скрытым глубже. Я помню одну из самых жестоких и хитроумных шуток Котолин. Тогда мы обе были девчонками – это случилось немногим позже того, как мою мать забрали, – и Котолин пригласила меня в игру. Моё сердце забилось чаще от её приглашения, жаждая даже маловероятной возможности дружбы.
Котолин велела мне спрятаться где-нибудь в лесу, а она будет меня искать. Я улеглась в зарослях папоротника, выкопала в грязи небольшую ямку для подбородка. Я всё ждала и ждала, пока клочья неба, видневшиеся между ветвями терновника и качающимися ветвями ивы, не стали тёмно-синими. Холод сумерек окутал меня вторым плащом, и вдруг тени деревьев стали похожи на разинутые пасти, а терновник, обнимавший меня, из колыбели превратился в клетку. Я выбежала из своего укрытия, и шипы цеплялись за мою одежду. Плача и спотыкаясь, я бросилась в Кехси.
Вираг была сбита с толку моими слезами.
– Почему ты просто не вышла?
Я беспомощно моргнула, глянула на Котолин, слишком потрясённая, чтобы произнести хоть слово.
Она посмотрела на меня лукаво-бесхитростно.
– Я тебя везде искала. Так и не смогла найти.
Лишь позже я поняла, почему эта уловка была такой безупречной. Она не оставила никаких доказательств своих недобрых намерений, никакой раны, на которую я могла бы указать и сказать: «Видите, она сделала мне больно!» И если бы я попыталась выразить свою боль вслух, все сочли бы меня болтающим попусту ребёнком. В самом деле, почему я не вышла? Ведь все знают, что лес опасен по ночам.
Смотреть, как Пехти умирает рядом со мной, похоже на ожидание Котолин в лесу. Меня ранит моё собственное отвращение и ужас, моя неуместная жалость и чувство вины – ничего больше. Я ненавижу капитана за то, что он связал меня с моей собственной беспомощностью. Ненавижу его так сильно, что в груди разливается жар, яростный, сбивающий дыхание.
И вдруг моя лошадь останавливается. Держится рядом с вороным жеребцом Имре, прижимая уши к голове цвета слоновой кости.
– Слышали? – спрашивает Имре. Его бледные ресницы усеяны крошечными ледяными жемчужинами. Вдалеке – так далеко, что едва можно услышать, – раздаётся неспешный размеренный шорох.
– Это Пехти, – отвечает Фёрко, направляя своего коня так, чтобы остановиться сбоку от меня. – Чудовища в лесу слышат его стоны за много миль. Это выманивает их из логова и…
Капитан разворачивается к нам, положив ладонь на рукоять топора. В его тёмных кудрях виднеется капелька белизны, диадема из инея.
– Тихо, – резко говорит он, но кадык у него чуть подёргивается.
Пехти, прижавшись ко мне, замирает. Мы не произносим ни слова, когда шелест приближается. Ещё ближе. Бёдрами я чувствую, как вздымается и опадает грудь моей кобылы. Имре уже достал свой топор, а Фёрко – свой лук. Мы держимся рядом, единая масса огромной человеческой добычи.
Туман выплёвывает что-то на тропу перед нами. Все четыре лошади с безумным ржанием встают на дыбы, и Пехти соскальзывает со спины моей кобылы, увлекая меня за собой. Тяжело падаю спиной на твёрдую холодную землю, слишком потрясённая, чтобы даже вскрикнуть.
– Стоять! – рявкает капитан.