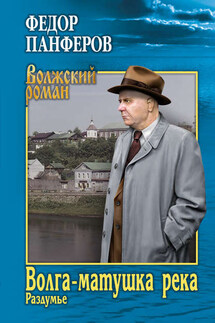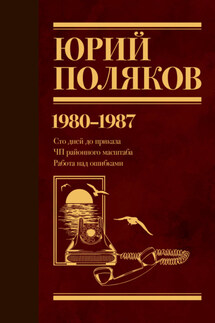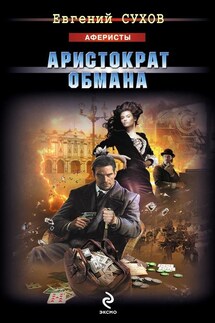Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье - страница 22
И однако у Иннокентия Жука в сердце пустота… Появилось это ощущение недавно, когда Мария Кондратьевна сообщила ему:
– Катя не способна на роды, Иннокентий Савельевич. Не надейся.
Да, а он все ждал, вот-вот и в их доме закричит сын или дочка.
«Ну, что теперь? Умру, скажут: “Был”. А так говорили бы: “Чей это сын?” Или “Чья это дочка?” – “Да Иннокентия Жука”».
И не хочет ее с тех пор Иннокентий. Ссылается: устал, замотался. А чего уж там устал, замотался! Уверь: будь сын или дочка, тут же, в этой солнечной колыбели… Нет. Все надежды потеряны… вот и пусто. В одном уголке на сердце пусто у Иннокентия… и опять об этом никому не скажи: просмеют…
Быстро выпив крынку молока, съев баранину и хлеб (он не любил съедобное оставлять на столе), председатель колхоза вышел из домика, вскочил в седло. Рыжик затанцевал, делая круги.
– Шалишь, Рыжик!
Иноходец сорвался с места и, чуть вздрагивая, понесся туда, куда его направлял хозяин каждое утро, – на галетную фабрику.
Вон завиднелось огромное – по разломовским масштабам – двухэтажное кирпичное здание, пламенеющее на солнце. Далеко видна вывеска со словами: «Галетная фабрика колхоза “Гигант”». Перед фабрикой цветники. К самой фабрике тянется дорога, устланная кирпичом, поставленным на ребро.
Из высокой трубы валит черный, густой, смолянистый дым. Это очень красиво, особенно сегодня, на фоне синего неба. Но Иннокентий знает, что когда из трубы валит такая густота – плохо: истопник кинул в котел лишнего торфа.
Председатель колхоза каждое утро проезжал на Рыжике мимо галетной фабрики просто так, полюбоваться. И сегодня он ехал мимо так себе, полюбоваться. Фабрикой руководит его жена Катя, на этом основании он даже не вмешивается во внутренние дела галетной: над ней шефствует Вяльцев… Но, увидав дымовую завесу, расползающуюся по синему небу, предколхоза вздыбился, точно кот, даже глаза – и те у него позеленели. Подлетев к тамбуру котельной, он заколотил по карнизу ручкой плетки.
– Федор! Вылазь!
Из котельной показалось сначала перепуганное лицо, а на нем – немигающие, как у куклы, глаза, затем – грудь, и вот истопник уже весь, полностью, стоит перед председателем колхоза, не понимая, почему тот бранится. Белены, что ли, объелся?
– Дым за твой счет или за счет Бога-Христа, его мать? – процедил Иннокентий Жук, тыча плеткой в направлении верхушки трубы, из которой в эту минуту дым повалил еще гуще, извиваясь клубами.
То, что Иннокентий Жук чрезмерно скуп, знали все. Но он был скуп не только по отношению к другим, но и к самому себе. Например, вместо шикарных блокнотов носил с собой толстую тетрадь, в которую и записывал «все набегающие мысли».
Однажды ему сказала секретарша:
– Иннокентий Савельевич, что это у вас тетрадишка какая? Неприлично до сраму. Я выпишу блокнот. Есть шикарные… Например, у директора Степного совхоза Любченко. Тот весь в шикарных блокнотах… тут торчит, там торчит. Красота!
Он весь шикарный, Любченко. Это только за ним и водится. А нам такая шикарность не к лицу: дорого. По вместимости эта тетрадка равна пяти блокнотам. Каждый блокнот десять рублей, значит, пятьдесят целковых. Выгода – сорок пять. А глупые мысли не поумнеют, хоть золотом их обложи. Умные на клочке бумаги долго жить будут, – поучительно ответил председатель колхоза.
– Сорок пять! – воскликнула секретарша. – Какая мелочь! У колхоза в банке миллионы лежат, а председатель над рублем дрожит.