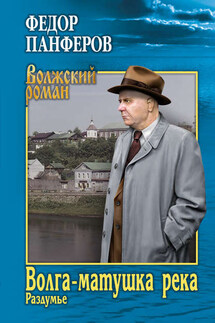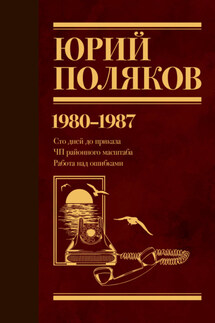Волга-матушка река. Книга 2. Раздумье - страница 40
Тогда чабаны поодиночке стали входить в круг. Стучали посохом, и каждый два раза вскидывал руку с растопыренными пальцами, повторяя:
– Своих овечек жалко, ясно… но дружба.
И сейчас Егор, не отрываясь от окна, долго смотрел на отару, не зная, откуда она взялась.
Иннокентий Жук подсказал:
– На круг собирались… чабаны.
И Егор, сразу поняв все, взволнованно прошептал:
– Вон оно что! – и, повернувшись к жене, прогремел: – Гуляем!.. Весь капитал – на стол, угостим людей сердечных!
– Пир, значит? – спросил Иннокентий Жук.
– Пир на весь мир, – подтвердил Егор и распрямился – высокий, широкогрудый, рыжий, как красный камень. Глыба!
– Нет. Допреж давайте Аннушку на ноги поставим, – возразил Иннокентий Жук и – к академику: – Видите, Иван Евдокимович, какое лекарство народ для Егора Васильевича придумал? Вы ученый, сообразите такое и для Анны Петровны.
Глава четвертая
«Зис» легко, словно облако, оторвался от парадного подъезда пятиэтажного дома и бесшумно, точно боясь потревожить утреннюю дрему города, понесся асфальтированной улицей, взяв направление на север.
Аким Морев, сидя рядом с Астафьевым, посмотрел на его посвежевшее лицо и спросил:
– Удалось поспать, Иван Яковлевич?
– Я сплю, как чабан: где угодно, на чем угодно. Склонил голову – и храпака. Не потревожил вас руладой?
– Рулады не было, но почвакивал вкусно.
– Наверное, во сне пил чай с курагой, как в детстве, – смеясь, пояснил Астафьев.
– Сны запоминаете?
– Нет: крепкий сон вычеркивает из памяти сны.
А секретарь обкома так и не сомкнул глаз.
Вчера, часов в одиннадцать ночи, пригласив Астафьева в свою пустующую квартиру и по-холостяцки угостив его чаем с бутербродами, он провел его на половину, официально занимаемую академиком Иваном Евдокимовичем Бахаревым. Астафьев, как только прилег на диван, так и «зачвакал», что Аким Морев слышал из своей комнаты, а издавал ли он потом рулады, или нет, это до Акима Морева уже не доходило: он как-то на время оглох ко всему, что не касалось его внутренней боли.
Ему казалось, что область трещит, как ветхий корабль в бурю на море, чего, возможно, мог еще не слышать рядовой пассажир, но зато уже не только слышит, но и ясно предвидит опасность опытный капитан.
«Можете потерять доверие Центрального Комитета партии», – сказал Акиму Мореву Моргунов.
Потерять доверие Центрального Комитета – значит не только низко пасть, но и дать возможность распоясаться противникам: обрушить на тебя все, что взбредет им в голову, вплоть до лжи и клеветы. А противников у Акима Морева уже немало. Чего стоит один секретарь горкома Гаврил Гаврилович Сухожилин! Случись беда, и Сухожилин поднимется, даже талант проявится… Друзья – и те расколются: одни метнутся к Сухожилину, другие при встрече будут украдкой сочувствовать, а за глаза говорить:
– Был князь, превратился в грязь.
И Акимом Моревым стала овладевать тревога. А не поспешил ли он, дав согласие стать первым секретарем обкома? Не лучше ли было задержаться где-либо «пониже»? Ведь он не из тех, кто при назначении на тот или иной руководящий пост рассуждает: «А какую выгоду сие мне даст? Будет ли у меня в личном пользовании машина и какая? Смогу ли “нацарапать” себе на дачку?» Нет. Аким Морев был человеком другого склада: стремился во всю меру сил проявить свое дарование общественного деятеля, как проявляют свои дарования рабочие, колхозники, ученые, писатели. Такое проявление было основой основ его личной жизни. Отними у него эту возможность – и он сник. Но, может быть, для проявления своих дарований он взял слишком большую площадку – область, да еще самую трудную в Поволжье? Ведь здесь уже перебывало семь секретарей обкома… и почти все «погорели». Не «погорит» ли и он, Аким Морев? И что следует предпринять, чтобы не «погореть»?