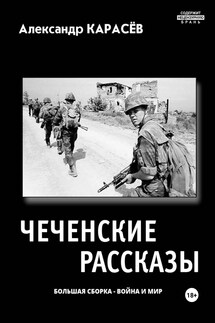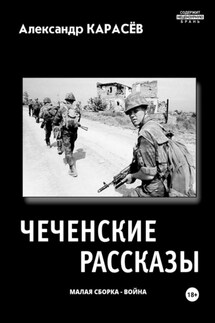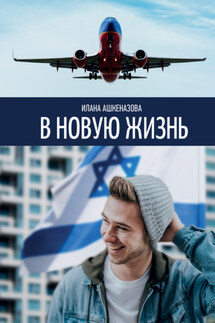Волки и шакалы - страница 22
Гости допили чай, поднялись.
– Может, еще чаю? – спросила подошедшая Даша.
– Нет, спасибо, нам еще надо допросить Ахмеда, – отказался старший.
Рябой взял исписанный листок из рук Кравцова и вместе с письменными принадлежностями спрятал в планшет.
– Вряд ли вы его сейчас найдете, – пояснил охотник. – Он летом вообще не бывает дома – пасет своих овец, а его жена не понимает по-русски.
Милиционеры попрощались и, сев в седла, направились к кошаре, но, как и сказал Александр, хозяина на месте не оказалось, а Патимат ничего вразумительного не сказала.
Расследование убийства Квасова зашло в тупик. У всех, кто имел нарезное оружие, было крепкое алиби, а близость к месту трагедии села Крайновка указывало на то, что к убийству причастны местные.
Глава 4. Красное колесо
Одной из важнейших задач партии и хозяйственного руководства страной на рубеже двадцатых-тридцатых годов стало вовлечение в процесс индустриализации сельского населения. Это предполагало насыщение рынка дешёвыми промышленными товарами, в которых нуждалось крестьянство, и получение в обмен так необходимых сырья и хлеба.
Сталин и его окружение пошли по пути, наиболее простому для них и трудному и медлительному для деревни. Решено было форсировать коллективизацию с целью безвозмездного получения хлеба, но не путем продналога, а через обязательные поставки. В декабре 1927 г. состоялся пятнадцатый съезд ВКП(б), за которым в литературе на долгие годы закрепилось название «съезда коллективизации». В действительности на съезде речь шла о развитии всех норм кооперации, о том, что перспективные задачи «постепенного перехода к коллективной обработке земли будут осуществляться на основе новой техники (электрификация)», а не наоборот. Ни сроков, ни тем более единственных форм и способов кооперирования крестьянских хозяйств съезд не устанавливал. Точно так же решение съезда о переходе к политике наступления на кулачество имело в виду последовательное ограничение эксплуататорских возможностей и устремлений кулацких хозяйств, их активное вытеснение экономическими методами, а не методами разорения или принудительной ликвидации.
Наиболее значимым и очевидным доказательством правильности «курса на коллективизацию» и необходимости его форсированного осуществления считался хлебозаготовительный кризис, возникший зимой 1927–1928 гг. и преодоленный в результате коллективизации. Для Сталина кризис хлебозаготовок объяснялся «кулацкой стачкой» – выступлением выросшего и окрепшего в условиях НЭПа кулачества против советской власти. На самом деле кризис хлебозаготовок возник как результат рыночных колебаний. Сокращение же государственных хлебозаготовок создало угрозу планам промышленного строительства, осложнило экономическое положение, обострило социальные конфликты в городе и деревне. Ситуация начала 1928 года требовала взвешенного подхода. Однако в тот момент сталинская группа уже добилась большинства в политическом руководстве и пошла на слом НЭПа. Стало широко практиковаться применение чрезвычайных мер насилия по отношению к крестьянским массам. Из центра на места последовали подписанные Сталиным директивы с угрозами в адрес партийных руководителей.
Тон этой кампании был задан Сталинской поездкой по Сибири в январе – феврале 1928 г. Во время его инспекции были сняты с работы и исключены из партии десятки местных работников за «мягкотелость», «примиренчество», «срастание с кулаками» и т. д. Теоретическим обоснованием форсирования коллективизации явилась статья Сталина «Год великого перелома», опубликованная 7 ноября 1929 г. В ней утверждалось, что в колхозы якобы пошли в основном середняцкие массы крестьянства, что в социалистическом преобразовании сельского хозяйства уже одержана «решающая победа» (на самом деле в колхозах тогда состояло 6–7 процентов крестьянских хозяйств, притом что 1/3 части деревни составляла беднота. Нарушение законности, произвол, насилие в ходе проведения коллективизации вызвали открытые протесты крестьян вплоть до вооруженных восстаний. В 1929 году было зарегистрировано 1 300 «кулацких» мятежей. Следующий шаг на пути усиления гонки за «темпом коллективизации» был сделан на ноябрьском съезде ЦК ВКП(б) 1929 г. Задача «сплошной коллективизации» ставилась уже перед целыми областями. Руководители парторганизаций Северного Кавказа, нижней и средней Волги, Украины стали брать своего рода «обязательства» по проведению коллективизации за год – полтора к лету 1931 г. Но эти обязательства были признаны недостаточными. Как результат, часть руководителей провозгласила на местах лозунг «бешеных темпов коллективизации». После принятия 5 января 1930 г. ЦК ВКП(б) постановления «О темпе коллективизации и мерах помощи государства колхозному строительству» уровень коллективизации стал стремительно расти. В начале января 1930 г. в колхозах численность – 20 процентов крестьянских хозяйств, к началу марта – свыше 50.