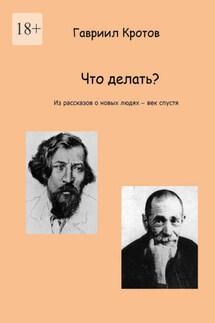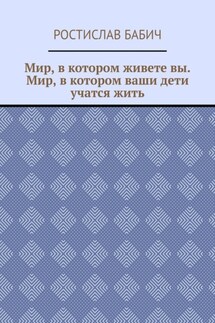Волшебный сок. Повесть об архитектурных подходах к педагогике - страница 7
Вот надысь прислали нам студента из торгового института. И точно, наука у него великая: как начнёт стихи Пушкина сыпать, так по полчаса подряд тараторит. А смекалки коммерческой нет. Все ждёт, когда ему наряд спустят, а людям лес вынь да подай. Ну, меня спрашивают. Я к директору (конечно, не коммерческому) на лесопилку. Балычку, икорки да полдюжины шустовского коньячку – и пять вагонов леса у меня на складе. Ну, конечно, на какой-то процент не выполнит план, премии не получит, так он её от меня ее получил. Опять же государству не расходоваться… Пробовали ко мне придираться, но только не их ртом мышей ловить. А теперь у меня положение твёрдое. Ежели где что и не так, не спросят.
– Но ведь это взятки?
– Да ведь как назвать. Одни говорят взятки, другие – магарыч, третьи – благодарность, четвёртые – выручка. По всякому называть можно.
Вот вы, молодой человек, дворец собираетесь строить. Вам, конечно, всякие лимиты спустят, а без меня не обойдётесь. Стены поставите, и крышу возведёте, и покрасите, а вот шпингалетов не хватит. Писарь там ноль к цифре один не поставил вместо 1000 – 100 получилось. Вы ко мне пожалуйста, я вам шпингалеты, вы мне – гвозди. Как говориться: «рука руку моет».
– Нет, я уж постараюсь без вас обойтись.
– Да я ведь к слову… Ну, спешу перед обедом.
Позавтракали почти молча. Юные друзья объединили продукты, словно подчёркивая общность мысли и цели. За едой перебрасывались студенческими остротами, рассказывали комические случаи студенческого быта и просто анекдоты, но все чувствовали, что воздух как будто чем-то отравлен.
После завтрака вышли в коридор и, не сговариваясь, перешли в другой конец вагона.
– Чувствуете, – спросил Гена, – как эта наглая проповедь гнетёт и пугает, парализует волю?.. Во всём: в словах, в движениях, в манере есть, даже сидеть чувствуется что-то деспотическое?
– Может быть в нас, независимо от нашей воли, действует какой-то атавизм, подспудный страх, тысячелетняя привычка к рабской покорности? – задумчиво предположил Виля.
– Да, нужно будет работать по созданию нового человека, – добавила Катя, – если уж мы в комсомоле, в институте не смогли вытравить этот атавизм… Но мне кажется, что Виля неправильно определил наше чувство. Это не страх, не покорность, даже не угнетённость, а отвращение. Вот я помню из детства, как в комнату попала громадная жаба. Надо было её выкинуть, но даже возиться с ней было омерзительно. Я решила подождать брата, но и находиться в комнате с жабой было противно… Мне кажется, что у нас общее чувство – классовая ненависть к человеку, примазавшемуся к советской власти. Ничего здесь рабского нет. Ведь никто из нас не кинулся ему прислуживать.
– Да, пожалуй верно, но противно смотреть, как проводник подчиняется его требованиям.
– Во-первых, обслуживать пассажиров его обязанность, – заметил Гена, – а во-вторых, он платит ему дополнительно за работу.
Определение чувства подняло настроение группы, но не уменьшило брезгливости. Евтихий Аристархович, казалось, не замечал этого, вмешивался в разговор, говорил властно и с апломбом. Вообще он ничего не стеснялся. Однажды подал кондуктору червонец и пробасил:
– Принеси-ка мне, братец, бутылочку рабоче-крестьянской!
Кондуктор положил червонец на столик и сказал:
– Нет уж, извините, гражданин, бумажки за вами убрать, чайку принести – это я каждому пассажиру с удовольствием, но за водкой бегать – прошло время. До революции мальчишкой набегался.