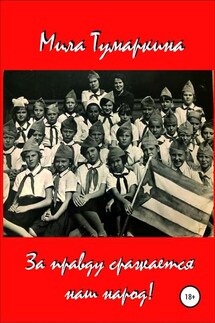Воскресный день - страница 3
Куски молодой баранины, молоко в полулитровых бутылях, янтарное сливочное масло и буханки только что испечённого в местной пекарне благоухающего хлеба ныряли в авоськи. Женщины нагруженные, как баржи, штурмовали остановки. Неказистый с виду павловский автобус ходил каждый час. Пазик вмещал в себя немного, но, как правило, чтобы не терять час времени на ожидание, в автобус набивалось в разы больше людей, чем положено. Особенно в конце рабочего дня. Кроме того, следуя по маршруту через весь город, пазик подбирал пассажиров, останавливаясь не на остановке, и даже не близко от неё, а где надо тому, кто просто поднимал руку.
И в центре города, у магазина, задержавшиеся пассажиры еле втискивались в салон и ехали стоя, под окрики водителя, предлагающего потесниться или выйти и дождаться следующего. Но никто не выходил, люди лишь теснее прижимались друг к другу. И походили на шпроты в банке. Автобус кренился, ехал медленно, чихая пахучим дымом, будто старый вол, поднимающийся в гору.
Иногда этот же Пазик казался пустым, и это всегда обозначало одно: скорбящие родственники, провожают усопшего в последний путь на автобусе, выделенном предприятием, где ранее работал умерший или его родные. Понятие «катафалк» в городе отсутствовало напрочь. Иногда такие колесницы мы видели в иностранных фильмах. У нас же в южном приграничном городке роль погребальной кареты выполнял тот же самый Пазик. В отличие от движения с пассажирами, в такие дни он не мчался по улицам, поднимая клубы пыли, а медленно полз в сторону старого кладбища, за городок. В такие моменты очень неловко было видеть табличку с надписью «люди», прикреплённую к кабине водителя.
Я долго бродила по затихающим улицам, и не могла успокоиться. Мне хотелось плакать.
К вечеру приплелась домой. Бабушка, взглянув на меня, тут же попыталась выяснить, почему я такая «убитая» после школы? И почему пришла так поздно?
Усталость, огорчение и досада, навалившиеся на меня, отбили всякую охоту разговаривать даже с любимой бабушкой. Ничего не ответив и заперевшись в своей комнатке, также молча, я сидела у окна, смотрела на знакомую до мелочей улицу. И не могла освободиться от событий, которые навалились на меня тяжким грузом.
Когда же передо мной в окошке повисла тяжёлая, близкая и от этого сказочно огромная луна, бабушка осторожно постучала в дверь и предложила ужин.
Есть совершенно не хотелось. Ничего не хотелось. Ни читать, ни даже писать стихи, которые в тот год приходили ко мне каждый день, обрушиваясь летним дождем.
Я безучастно смотрела на яркие лунные дорожки, что перекрещивались на полу шахматной клеткой, отражая переплёты рам, и молчала. Бабушка добавила в голос строгости и прямо спросила:
– В чём, собственно, дело?
Я уклончиво ответила, что болит голова.
Она ещё несколько раз пыталась заманить меня на кухню моими любимыми куриными котлетками, и даже принесла тарелку, из которой выглядывали их аппетитные поджаристые бока. Но к тарелке я не притронулась, а сидела перед окном и распухала от слез. Перед глазами проносилось растерянное лицо Сашки, вконец рассерженная Маргарита Генриховна. Она, неприятно красная, злая, задетая чем-то более значительным, чем мы могли уразуметь, грозила мне пальцем и почему-то улыбалась.
Мысли больно и колюче ворочались в голове: «Почему Маргарита так говорит о Пушкине? Как она смеет осуждать великого поэта? А Сашка?» При воспоминании о друге, сердце застучало ещё больнее. И сразу я вспомнила тот злополучный день, когда нашли Сашкиного отца. Нашли через неделю безуспешных поисков, уже мёртвого вдалеке от городка.