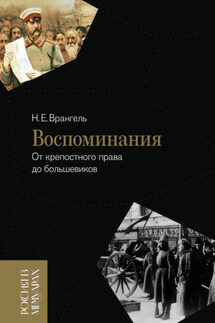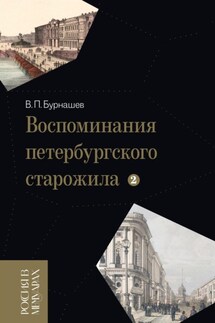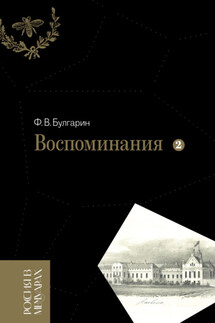Воспоминания. От крепостного права до большевиков - страница 14
– Тетушка, который час? – спрашивали мы.
– Я, ма шер, слава Богу, этому еще не научилась. На то есть горничные, – был ее неизменный ответ. И хотя часы стояли рядом, она звала свою горничную и просила ее сказать, который час.
Но в этой придурковатой смешной старушке жила геройская античная душа. Когда ей было уже 60 лет и оказалось нужным сделать весьма мучительную операцию, она от хлороформа по принципу отказалась: «Когда женщине моего рода и племени предстоит опасное, она не должна бояться ни боли, ни смерти, а глядеть им прямо в глаза». Главой дома по законодательной части считалась старшая сестра Вера, которой было восемнадцать, когда умерла наша мать; по части распорядительной – дородный, бритый, осанистый министр-дворецкий из наших крепостных, которого отец звал Чумазым, а все остальные Максимом Егоровичем.
Семья наша подразделялась на два и по обычаям, и по правам совершенно разные племени: «больших» и «маленьких».
Большие и маленькие
«Большие» были богаты, всемогущи, свободны, никому, кроме Бога и Юпитера, не подчинялись, а над всеми командовали и важничали. Жили они в больших хоромах, где лакеи носили ливреи, ездили кататься, когда хотели, без спроса, целый день ели конфеты, говорили неправду, «врали», как уверяли «маленькие», нас щипали и для потехи дразнили. А когда им того хотелось, они без всякого резона ставили нас в угол и драли за уши. Словом, могуществу их не было предела, и они им, вопреки божеским и человеческим законам, злоупотребляли.
Маленькие, те были беспомощны, слабы, терпели от больших всякие притеснения, жили в тесной детской, гулять ездили не на чудных рысаках, а ходили пешком, и их дразнили и наказывали. Хуже того, уличали во лжи, когда они не лгали, а говорили то, что им казалось правдою, то, что в их воображении действительно существовало. И они были несчастны и часто горько плакали от обиды. Защищать маленьких было некому: мать их давно умерла, отец сидел в кабинете, куда вход был запрещен, а няня была бессильна и справиться с большими не могла, хотя храбро на них набрасывалась. Большие все, тоже бывшие ее питомцы, ее боготворили, но всерьез не принимали. Ее целовали, щекотали, кружили в бешеном вальсе – и обращали в постыдное бегство. К тому же племя маленьких было немногочисленно; оно состояло всего из трех лиц – няни, сестренки Даши, которую все, за ее смешную миловидность и запуганное выражение лица, звали «Зайкою», и меня. Большие были все остальные, пожалуй, за исключением брата Жоржа, который был ни то ни се. «Ни Богу свечка – ни черту кочерга», – как говорила няня. Дело в том, что Жоржу было уже тринадцать лет, и он уже от няни «отошел», так как готовился в Правоведение23, ходил в курточке и даже имел «бекешку»