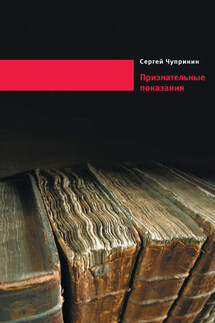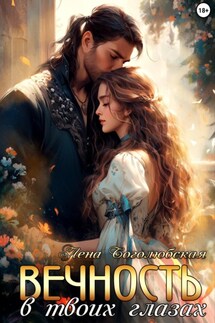Вот жизнь моя. Фейсбучный роман - страница 7
Ровно до тех пор, пока кто-то из нас не начал свой вопрос со слов: «Валентин Петрович, вот вы сегодня лучше всех пишете на русском языке[68]. Скажите, пожалуйста…»
«Скажу, – прервал вопрошателя Катаев. – Скажу, что лучше всех на русском языке сегодня пишет Владимир Набоков[69]. Все услышали, нет? Тогда я повторю – и будто в разрядку – НА-БО-КОВ!»
И, помедлив, обвел глазами зал: «Я – второй».
Семидесятые, знаете ли, годы. Известный своей, знаете ли, самовлюбленностью и своим, знаете ли, конформизмом сталинский лауреат[70].
Прочел в комменте к одной из своих давних записей: «Писателей оправдывает то, что они – прекрасные собутыльники. А среди поэтов иногда встречаются еще и симпатичные барышни…» И нечаянно вспомнилось.
В первой половине семидесятых я побывал подряд на нескольких семинарах молодых критиков. Юноши были разные, а вот барышни – все, как на подбор, страшненькие. Нетрудно было задуматься, что вот, мол, наша профессия только «синим чулкам» и впору. И лишь десятилетия спустя от некоей союзовский функционерки услышал, что такой была сознательная установка писательского начальства. Симпатичных на семинары в Дубулты и Переделкино не брать: чтобы семинаристы и их руководители в особенности не изблядовались.
Теперь-то от писательских союзов только тень и осталось. А девушек, что в критики нынче идут, хоть на подиум вызывай. Да посмотрите, скажу я вам, на попуганок – ведь чудо же, как хороши!..
И снова начало 70-х. Семинар молодых критиков в Переделкине. Уже отужинали. И мы – все как один провинциалы – сидим в закутке под лестницей, вокруг стола, на котором Арсений Александрович Тарковский обычно играл в нарды. А мимо, спускаясь со второго этажа, где и бар был тогда, и бильярдная, проходят писатели.
Да не те, что в Доме творчества взяли на срок или полсрока комнатку с умывальником, но без унитаза. А именитые, статусные, постоянные насельники переделкинских дач.
И один из них, в распахнутой богатой шубе, подле нас присаживается. Мы смущаемся, а он и говорит: «Ей-богу, я даже не знаю, зачем молодые сейчас идут в писатели. Вот я, помню, опубликовал первый роман и тут же получил за него Сталинскую премию. Ну и что что второй степени – все равно у меня через месяц была квартира на улице Горького, автомобиль „ЗИМ“ и жена – балерина Большого театра».
Начало писательских карьер – тема вообще из увлекательнейших. Поэтому нарушу-ка я хронологию и забегу вперед – в год, кажется, 1975-й или что-то вроде. Всесоюзное совещание молодых писателей. Семинар критики. За учительским (руководящим) столом Виктор Ксенофонтович Панков[71], Григорий Абрамович Бровман[72], еще кто-то, а володеет и княжит, конечно, Виталий Михайлович Озеров[73]. Спор ведут в основном Витя Ерофеев, только что прославившийся статьей о маркизе де Саде, и Гога Анджапаридзе[74], за которым давно уже идет слава, что именно от него в Лондоне убежал Анатолий Кузнецов[75]. Гога, понятно, за устои советской литературы, Витя, само собой, в них сомневается. Но оба блистают эрудицией, сыплют цитатами: Гога – по-английски, Витя – по-французски. Наставники дремлют.
И тут встает Коля Машовец[76] (ныне, увы, покойный) из Саратова. И начинает так: «Я как критик-коммунист…» Что он говорил дальше, никого уже не волновало. Ни нас, семинаристов, ни тем более наставников. Как они, бедолаги, встрепенулись от слов, давно не слышанных, как взорлили! И что же? Уже через два месяца тихий аспирант из Саратова стал инструктором ЦК ВЛКСМ по работе с творческой молодежью, потом зам. редактора «Литературной учебы»