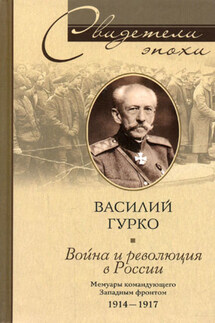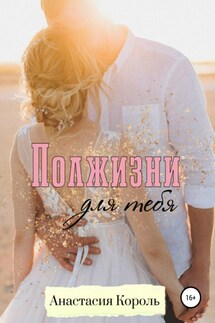Война и революция в России. Мемуары командующего Западным фронтом. 1914-1917 - страница 42
Очевидно, что конечной целью и назначением этой системы было утверждение в сердцах местного населения такого ужаса, который бы исключал всякую вероятность враждебных действий в отношении недругов-завоевателей. Добиваться такого результата германцы намеревались путем применения бесчеловечной жестокости. Они явно считали свою систему благодетельной не только для самих себя, но и для населения государств, завоеванных ими силой оружия. Кажется, они верили, что террор может служить для покоренных народов предупреждением и гарантией того, что захватчикам не придется прибегать к еще большей жестокости в случае совершения действий, враждебных оккупационной армии. Относительно того, какую пользу их террористические меры принесли германцам, судить должны они сами. Что же касается действия, которое их методы произвели на бельгийцев, поляков, сербов и на все народы держав «сердечного согласия», то по этому вопросу двух мнений быть не может. Мне могут сказать, что я сам защищал подобную систему, настаивая на применении строгости для того, чтобы не попадать в положение, когда обстоятельства вынуждают быть по-настоящему жестоким. Однако аналогии ничего не доказывают. Строгость может и должна быть использована против лиц, которые так или иначе отчасти виновны, – для удержания других людей от следования дурным примерам.
В германской системе «превентивная» жестокость начинает применяться немедленно, как только какой-либо населенный пункт оказывается в их руках, без всякого учета степени виновности ее жертв. Однако суровость отделена от жестокости бездонной пропастью.
Для действий на левом берегу Вислы мы могли выделить всего несколько кавалерийских дивизий, тогда как вся пехота была сосредоточена на правом берегу реки. Поначалу даже варшавский гарнизон был довольно малочислен. В то же время германцы, строго следуя принципу концентрации всех на личных сил на направлении главного удара, в первый период войны полностью игнорировали эту часть русской территории. Только при вступлении германских колонн в пределы Царства Польского был заполнен значительный разрыв, который до этого времени существовал между германскими и австро-венгерскими армиями.
Война постепенно приобретала черты, свойственные для применения линейной стратегии, и в тот момент было уже недалеко до совершения следующего шага в том же направлении – до перехода к позиционной или траншейной войне.
Разрыв между армиями Центральных держав был заполнен германскими частями ценой ослабления фронта по реке Неман и Августовскому каналу, а также за счет корпусов, переброшенных с французского фронта.
Вступив в Россию на фронте Ковно – Гродно, германцы рассчитывали преодолеть эту оборонительную линию одним ударом и добиться здесь победы, похожей на ту, которую одержали наши войска, форсировавшие австрийскую оборону, включавшую реку Днепр[46] с сильно укрепленными берегами.
Для форсирования Немана германцы бросили вперед сильные пехотные колонны, состоявшие из нескольких дивизий с приданной им тяжелой артиллерией. В центре фронта их наступления оказалось местечко Друскеники. Маленький городок был расположен приблизительно посредине между Ковно и Гродно. Две эти крепости за последние несколько лет модернизировались в соответствии с последними идеями военно-инженерной науки и должны были получить на вооружение крупнокалиберные орудия новейшего типа. Когда началась война, работа там была в самом разгаре, но по тем или иным причинам ни один из ее этапов не был завершен. С началом мобилизации темпы работ были увеличены, но исключительно за счет строительства деревоземляных укреплений; разумеется, о быстром возведении бетонных сооружений невозможно было и помыслить.