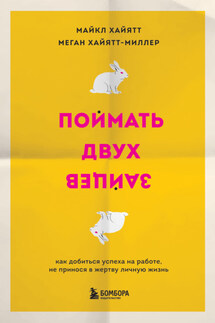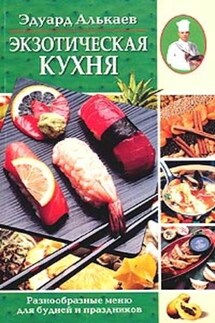Возможная Россия. Русские эволюционеры - страница 4
Не говоря уже о том, что именно этот человек в ту пору вел все важнейшие для страны внешнеполитические дела. В 1551 и 1552 годах Адашев ведет переговоры с казанским царем Шиг-Алеем, в 1553-м – с ногайцами, в 1554, 1557 и 1558 годах с – Ливонией, в 1558-м и в 1560-м – с Польшей, в 1559 году – Данией. И везде твердо защищает русские интересы.
Правда, на этом внешнеполитическом направлении наметились и первые принципиальные расхождения с царем. Алексей Адашев после присоединения Казани и Астрахани настаивал на крымском походе, учитывая тот огромный вред, что наносило русской земле Крымское ханство. Между тем Иван Грозный ратовал за выход к Балтике, что открывало для русских огромные возможности, то есть за войну с Ливонией. Но воевать на два фронта было невозможно. Приходилось выбирать.
С точки зрения истории, правы были оба. И оба, как доказала та же история, забегали вперед. Лишь значительно позже как ту, так и другую крайне важную для себя задачу Россия решила. Петр I прорвался к Балтике, а Екатерина II присоединила Крым.
О человеческих качествах Адашева, по причине придворных интриг, в источниках можно найти полярные оценки. С точки зрения его противников, Адашев в качестве премьера был «суров и властен». С точки зрения его сторонников, все, естественно, наоборот. Современник Адашева князь Андрей Курбский считал его «подобным земному ангелу». В среде тогдашних реформаторов Адашев слыл человеком аскетичным, справедливым и глубоко религиозным.
Очень нравился он и многим более поздним исследователям того периода. Известный дореволюционный историк Николай Лихачев об Алексее Адашеве, например, писал: «Личность… сияет таким ярким светом доброты и непорочности, является таким образцом филантропа и гуманиста XVI века, что не трудно понять ее обаяние на все окружающее».
Впрочем, важнее все же суть реформ, которые проводили Адашев и его единомышленники. Разумеется, без одобрения государя эти перемены были бы невозможны, однако тогдашние идеи все же родились не в царской голове и осуществлял их не он. Слишком еще был молод, да и находился под влиянием своего окружения. Позже, когда реформаторы впали в немилость, Иван Грозный, может быть, и не зря жаловался: «…сами государилися, как хотели, а с меня есте государство сняли: словом яз был государь, а делом ничего не владел». А саму Избранную раду Иван Грозный позже уже именовал не иначе как «со-бацким (собачьим) собранием», то есть фактически открещиваясь от реформ своей юности.
А зря. Не был бы Иван Грозный столь эмоционален и гневлив, то, трезво подумав, наоборот, записал бы реформы тех лет в свой актив. Февральское совещание 1549 года (его иногда называют Собором примирения) стало фактически первым Земским собором. А это означало, по мнению ряда историков, превращение Русского государства «в сословно-представительную монархию, создание центрального сословно-представительного учреждения». Другими словами, впервые в отечественной истории важнейшие решения в жизни государства начали приниматься не единолично государем или группой лиц, приближенных к нему, а хотя бы представителями господствующего класса, где значительную роль уже играли дворяне.
Русский народ и в этом случае оставался вдали от рычагов власти, однако это был все же шаг в верном направлении. Тот факт, что позже, в эпоху все того же Ивана Грозного, страна снова скатилась к неограниченному самодурству первого лица, не отменяет исторической важности первого Земского собора.