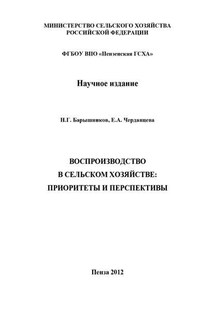Время рискованного земледелия - страница 29
Когда мать Шахрая развелась с Валеркиным отцом из-за отчаянного того пьянства, то, прихватив сына, уехала в Ярославль к родителям. В Ярославле чудесным образом Шахраи вновь оказались соседями с Ермолиными. После отъезда жены с сыном Шахрай-старший продолжал жить в Тутаеве, писал сыну длинные смешные письма с нарисованными шариковой ручкой картинками. Раз в месяц Алиса Вольфовна шла на почту и получала перевод. Не было случая, чтобы перевод не пришёл или задержался. В денежных отношениях у Шахрая-старшего всегда был Ordnung[3]. Да и сам он казался человеком хорошим, но словно махнувшим на себя рукой. После увольнения из тутаевской ментовки, где за пятнадцать лет дослужился лишь до старшего лейтенанта, работал простым грузчиком в продуктовом на площади. Пил там же, на задах, возле выкрашенного в красный пожарного ящика с песком, на который удобно было ставить и стакан и бутылку. Когда жена забрала Валерку и уехала к своим в Ярославль, замер на несколько месяцев, приходя в себя, уволился из продуктового, устроился завхозом «на пожарку». Но уже к зиме вновь запил, да так и пил до самого своего тихого и скорого конца в конце восьмидесятых.
Ленинградский университет для поступления был выбран из-за матери Мишеля. Она прислала деду серьёзное письмо, в котором настаивала, чтобы Мишель учился именно в Ленинграде. Мол, и так «всю жизнь ребёнка не видит», пусть хотя бы в университете будет рядом. Сама она работала в ректорате. Что касалось Шахрая, тот просто поехал вслед за школьным другом, ему было всё равно, он хорошо успевал по всем предметам.
Ермолин-старший поначалу хмурился, поскольку полагал, что внуку следует учиться в Казанском университете. Тамошний математический факультет славился ещё со времён его гимназичества. Но после, рассудив, махнул рукой.
– Пусть едет, Антонина! Что Казань, что Ленинград, всё от нас далеко, и захочешь – не накатаешься.
Лидушка уже окончила в том Ленинграде Институт культуры. Мишель хорошо помнил возвращение сестры. Она заранее дала телеграмму, и Мишель вместе с дедом и Колямбой встречал её на вокзале на служебной дедовой «Волге». И как она, обнимая маленького Колямбу, рассказывала и рассказывала про Ленинград, про институт на набережной Невы рядом с Марсовым полем, про мосты, которые действительно разводятся каждую ночь, и это вовсе не выдумка, про трамваи, про памятник Стерегущему, про зоопарк, про Дом книги. Особенно про Дом книги. Лидушка окончила библиотечный факультет, и книги составляли её существование.