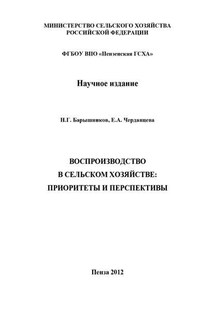Время рискованного земледелия - страница 32
Он старался смотреть в карты, а не на грудь Белозёровой, а в ушах крутился диалог в раздевалке перед физкультурой:
– У Барановой сиськи что надо.
– Прикинь, у Гольдберг больше! Вообще сисяндры!
– А ты трогал?
– Я-то трогал. А ты трогал?
– Даяу всех трогал, даже у Белозёрихи.
– У Белозёрихи отличные сиськи. Маленькие, но крепкие.
Переволновавшись, Мишель зашёл с бубнового валета, но вместо того, чтобы побить валета дамой, Белозёрова вдруг повернулась, положила карты на стол, потом встала и задёрнула левую, ближнюю к дивану штору. В комнате стало совсем темно. Тогда она подошла к Мишелю и протянула руку. Он послушно встал. Белозёрова сняла очки, положила рядом с картами и легонько толкнула Мишеля к дивану. Он оглянулся, и в то же мгновение Белозёрова толкнула его уже сильнее, так что диван оказался под коленками и Мишель просто рухнул, ударившись головой о твёрдый валик, но не проронил ни звука. Она опустилась на колени и приблизила лицо к его лицу, поцеловала в губы, потом встала и как-то по-дурацки, стоя то на одной ноге, то на другой, то приподнимаясь на цыпочки, сняла колготки, оставшись только лишь в светлых трусах, которые оказались самым ярким пятном в тёмной комнате. Мишель подвинулся к спинке дивана, ощутив всей голой спиной его колкость и шершавость. Белозёрова легла рядом, сразу впилась губами в его рот, засунув свой язык между его зубов, а руку положила туда, где, помимо его воли, за секунду поднялся «пик коммунизма». И вот он уже гладит её соски, кладёт ладонь на холодный, влажный зад и прижимает к себе.
– Ты меня любишь, Мишенька?
– Да! А ты меня, Алёнушка? – Он назвал так Белозёрову, даже не задумываясь, словно бы иного имени у девушки никогда и не было.
– Люблю тебя больше жизни! Люблю тебя! Люблю тебя!
Белозёрова прижалась к нему так, что он почувствовал её всю, даже пульсирующий лобок. Она чуть отстранилась, высвободила левую руку и, пробравшись вниз, сразу лихо расправившись с ремнём и пуговицами брюк, забралась к нему в трусы. Мишель схватил ртом тёмный воздух гостиной Белозёровых, уже расчерченный наискось светом фонаря, зажёгшегося в конце Волжской набережной, с тенями от штор и оконного переплёта. И вот в мешанину лёгкого нафталинового привкуса из открытого шкафа с платьями, которые так и не надела Белозёрова, и эха рыбного супа, который варили кошке из мороженой мойвы утром, влились густые волны его собственного и белозёровского пота, выхлоп кислого сухого вина из их открытых и кричащих страстным молчанием ртов. И в тот же миг он не выдержал и, выгнувшись так, что вновь ударился затылком о валик дивана, лопнул тугой и горячей струёй прямо в пальцы Белозёровой. А та, вместо того чтобы убрать руку, наоборот, принялась мять и гладить его опаскудившийся орган, от чего ко всем запахам преисподней примешался сладковатый и туманный аромат его, Мишелева, позора.
Отец Михаил посмотрел на дом, стоящий за временным жестяным забором, каким обычно, чтобы защитить от разграбления, закрывают купленную наново далеко от собственного обитания недвижимость. Где-то тут, за синим жестяным кожухом, пряталась пошарпанная филёнчатая дверь под тугой пружиной, в которую он выскочил, на ходу застёгивая на три большие круглые пуговицы синтетическое полупальто. Такие мохнатые полупальто были модны в тот и предыдущие года. Он бежал с поля боя, триумфатором, но обескураженным своей победой, сдавшимся самому себе и своим мыслям о себе, ничтожным и опозоренным. Месяц потом он чувствовал пальцы Белозёровой на своём члене и оттого возбуждался и, против желания, теребил и мял, пока не взрывался вновь в тишине и темени уличного сортира.