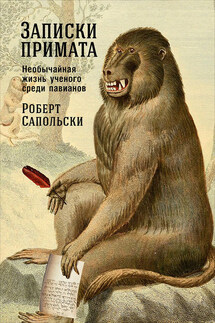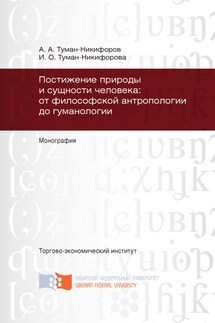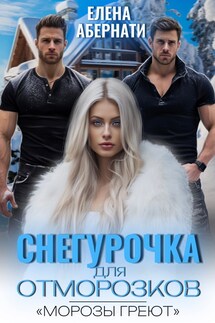Всё решено: Жизнь без свободы воли - страница 15
Так что же такое потенциалы готовности и их предшественники – решения или побуждения? Решение – это решение, а побуждение – это всего лишь повышенная вероятность принятия решения. Бывает ли так, чтобы предсознательный сигнал вроде потенциала готовности возникал, но действие не совершалось? Бывает ли действие без предшествующего ему предсознательного сигнала? Объединим эти два вопроса: насколько точно эти предсознательные сигналы предсказывают реальное поведение? Точность, близкая к 100%, нанесла бы серьезный удар по вере в свободу воли. Напротив, чем ближе оказалась бы точность к случайности (например, 50%), тем ниже была бы вероятность, что мозг «решает» что-то до того, как нас посетит ощущение свершившегося выбора.
Как оказалось, предсказуемость не так уж велика. Первоначальное исследование Либета было проведено таким образом, что вывести численное значение этого показателя не представлялось возможным. Однако в исследованиях Хайнеса фМРТ-изображения предсказывали поведение лишь с 60%-ной точностью, почти на уровне случайности. По мнению Мили, «60%-ная точность предсказаний, какую кнопку нажмет участник, не представляет собой большой угрозы свободе воли». По словам Роскис, «это предполагает лишь, что существуют некие физические факторы, которые влияют на принятие решений». В исследованиях Фрида, где регистрировалась активность отдельных нейронов, точность предсказаний достигала 80%; это, конечно, лучше, чем случайность, но и из нее не смастеришь гвоздя в крышку гроба свободы воли{28}.
Далее – к следующему критическому замечанию.
Нелепый заголовок, который я дал этом разделу, говорит о том, что я не в восторге от необходимости его писать. Не понимаю, что такое сознание, и не могу дать ему определения. Я не в силах постичь того, что пишут о нем философы – или, если уж на то пошло, нейробиологи, если только это не «сознание» в скучном неврологическом смысле, когда речь идет о состоянии человека без сознания, например в коме[26]{29}.
Тем не менее сознание занимает центральное место в дебатах вокруг эксперимента Либета, которые ведутся порой в довольно жесткой форме. Взять, к примеру, Мили и его книгу, чье название трубит о том, что он не собирается смягчать удар, – «Почему наука не опровергла свободу воли» (Free: Why Science Hasn't Disproved Free Will). В первом же абзаце он пишет: «Сегодня есть два основных научных аргумента против существования свободы воли». Первый предлагают социальные психологи, доказывающие, что поведением можно манипулировать посредством факторов, о которых мы не осведомлены, – мы видели такие примеры. Второй принадлежит нейробиологам, и его «основной посыл состоит в том, что все наши решения принимаются бессознательно и, следовательно, не свободно» (курсив мой. – Р. С.). Другими словами, сознание – это всего лишь эпифеномен, иллюзорное ощущение контроля, не имеющее отношения к нашему реальному поведению. Мне кажется, что это чрезмерно догматичный способ представить лишь один из многих стилей осмысления этого вопроса нейронаукой.
Дразнилка «вы, нейробиологи, не только всем проели мозги, но еще и верите, что все наши решения бессознательны» важна потому, что людей нельзя винить за их бессознательное поведение (хотя нейробиолог Майкл Шадлен из Колумбийского университета, чьи замечательные исследования питают дискуссии о свободе воли вслед за Роскис, горячо доказывает, что мы несем моральную ответственность даже за свои бессознательные действия)