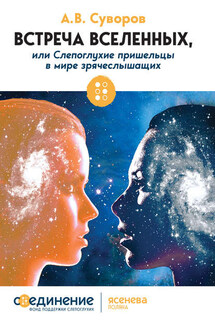Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - страница 45
Одна воспитательница похвалила пятилетнего слепоглухого мальчика, сидевшего на стуле, поджав под себя ноги, низко-низко опустив голову, так что спина колесом:
– Спокойный малыш. Хорошо.
Я промолчал, а про себя подумал: «Спокойный – или пассивный?»
Взрослые же делятся на взрослых и творцов. Взрослые – это те, кто сжег все мосты между собой и собственным и всяким детством; кто, как говорится, «не помнит себя ребенком». Творцы – это те, кто сохранил от детства и многократно усилил существенные черты: непосредственность, любопытство, способность увлекаться – все то, без чего невозможно творчество. Творчество во всех областях, в том числе – и, может быть, особенно, – в области этики межличностных отношений: интуитивная, в смысле не рассудочная, не рассуждающая, доброта, какая-то естественная терпимость. Мастер любви принимает всех такими, как есть, он иначе не может; именно то, что всего труднее всем остальным, вечным борцам за свою независимость, легко и естественно, как дыхание, для мастера любви.
Таким мастером любви, несомненно, была моя мама. По мне, самые лучшие взрослые – это выросшие дети, в чем-то главном и лучшем так навсегда и оставшиеся детьми, а поэтому способные на творчество. Просто взрослых, переставших быть детьми, порвавших с детством, я не люблю. Они скучные, назидательно-нудные, вечно резонерствующие, противные. Это вконец испорченные дети.
Вот сколько критериев для классификации людей я извлек из предыдущего изложения. Думаю, что этот перечень нельзя было оборвать стандартным «и так далее», ибо за меня этот список никто не составит и не закончит. Анализ других моих текстов мог бы непредсказуемо расширить перечень критериев для классификации людей. Только зачем расширять?.. И так ясно, что критериев у меня столько, что всякие классификации вообще-то лишаются смысла. Ибо все эти критерии сводятся, в сущности, к одному – к категорическому отрицанию какой бы то ни было штамповки людей, к признанию уникальности каждого. И тогда кончается наука. Начинается искусство с его вниманием к единичному.
Жизнь вынудила меня свернуть в науку с прямой дороги моего развития, которая лежала – и похоже, пролегла-таки, несмотря ни на что – именно в искусство, в литературно-художественное творчество. Поэтому я никогда не любил, да и не умел, классифицировать. Поэтому любой мой научный текст самым фатальным образом соскальзывает в публицистику, эссеистику и, наконец, откровеннейшую лирику. Так уж я «задуман» с детства, и все попытки изменить этот «замысел», заменить каким-то другим приводят лишь к обогащению первоначального «замысла». Попытка стать исследователем сделала меня публицистом, а попытка стать педагогом-практиком помогла преодолеть кризис поэтического творчества, привела к появлению особого рода любовной лирики, обращенной к детям. А в конце концов, все три сферы творчества у меня давно слились воедино, взаимно обогащают друг друга, и разрывать их, противопоставлять не стоит. Все равно другим быть не смогу.
Алексей Александрович, прочитав эту часть текста, спросил, не потому ли я выдал так много критериев классификаций, что был задет его предположением, будто слепоглухие делят людей на помогающих и не помогающих. Я не возражал – и поэтому тоже.
Идентификация. Если я правильно понял Бодалева, это стремление и попытка стать похожим на кого-то образцового, эталонного, на некий «живой идеал». Кроме того, это осознание себя как чьего-то представителя – человечества, народа, той или иной социальной группы, носителей того или иного мировоззрения…