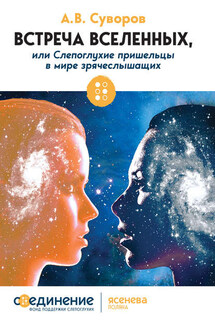Встреча Вселенных, или Слепоглухие пришельцы в мире зрячеслышащих - страница 53
В общем, если кому не нравится, что в текстах слепоглухого плохо видно кого-то еще, кроме самого слепоглухого, то счет следовало бы предъявить, может быть, даже в первую очередь тем, кого «плохо видно». Они вправе не желать, чтобы их было видно лучше.
И они, хотя и не вправе по-человечески, но могут разрешить себе, надеясь, что не будут разоблачены, «немножечко» попользоваться нашей слепоглухотой, ввести, разумеется желаючи нам добра, некую цензуру, некую дозировку информации. Как это очень часто позволяют себе вообще взрослые по отношению к детям, а правительства – даже самые «демократические» – по отношению к народам. Да еще, что, наверное, особенно «тактично», о пределах дозировки информации договариваются в нашем же присутствии! Мы же не услышим и не узнаем… Один «другой субъект», между прочим, тот же самый, который отвесил мне сомнительный комплимент насчет моей чрезвычайной «выгодности», настойчиво объяснял мне, что меня очень легко обмануть. Через несколько лет у меня накопилось достаточно причин задуматься, не пользуется ли он первый этой легкостью, равно как и моей «выгодностью». Это к вопросу о тех «других субъектах», которых я называю кукловодами…
Вот и заполнилась своего рода «анкета». Научную тему сформулировать легко: речь идет о том, как работают – и какие именно – механизмы общения в условиях слепоглухоты. Есть у Ильенкова статья «Думать, мыслить…» – один из вариантов знаменитой работы «Школа должна учить мыслить!». Тут, пожалуй, подсказка.
Зрячеслышащие, общаясь, всматриваются и вслушиваются. На этой чувственной основе вдумываются. Главное в общении, кто бы ни общался, – вдумываться в себя и в других. За бездумное порхание приходится расплачиваться более или менее жестоко. Можно общаться уверенно, непринужденно, но это вовсе не значит – бездумно. Просто накопился достаточный опыт, в общем и целом «накаталась колея», по которой и катится наше повседневное общение.
Мне трудно общаться потому, что я никогда не доверял колеям, особенно если они накатаны кем-то – не мной. Я всегда ревизовал и продолжаю ревизовать колеи. И особенно я недоверчив к тем колеям, которым доверяются «все». Я всегда добивался рационального объяснения, почему я должен вести себя, «как все», и кто такие эти «все». Аргумент: «все так делают, и ты так делай», – для меня всегда был тем же самым, чем является красная тряпка для быка.
Но я не вижу лиц. Не слышу голосов, а если даже и слышу через слуховой аппарат – не понимаю жужжащих вокруг меня разговоров. Как же мне ориентироваться в общении с людьми, если отвергаю накатанные колеи, вернее, недоверчиво осторожен с этими колеями?
А колеи мне очень нужны. Такие, в которых я был бы уверен. Без них общение, особенно с самыми близкими, любимыми, изматывает. Любой пустяк оборачивается проблемой. Не зная, как объяснить мотивы поведения окружающих, не доверяя ходячим объяснениям, дохожу до настоящей мнительности, подозреваю нечто чрезвычайно сложное там, где всего лишь пень да колода, то есть человек действует через пень-колоду, как черт на душу положит, как придется, по привычке или по случайному импульсу, а я над этим ломаю многомудрую голову.
Я на всю жизнь остался ребенком в том смысле, что хочу быть хорошим и хочу понять, что значит быть хорошим. Значит ли это «быть как все»? Да, если все лучше меня. А они лучше ли? И чем именно лучше? А вдруг, рекомендуя «быть как все», мне рекомендуют сходить с ума за компанию со «всеми»? Нет, я так не играю. Предпочитаю быть не «как все», а как я – быть самим собой, быть искренним. Но боже мой, до чего же это трудно… Это вообще трудно, и подавно – при слепоглухоте.