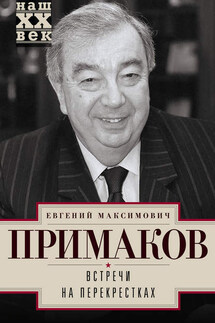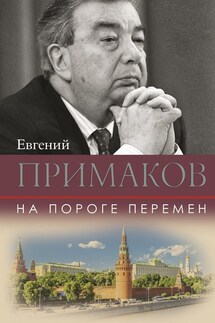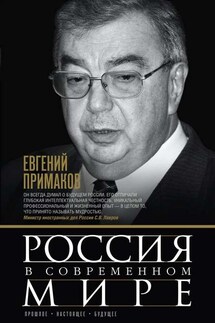Встречи на перекрестках - страница 65
В начале 1991 года не вернулись из загранкомандировки два сотрудника научно-технической разведки – подполковник Илларионов, работавший в Италии под прикрытием должности вице-консула в Генуе, который при содействии американских спецслужб выехал в США, и майор Гайдук, работавший старшим инженером в торгпредстве в Оттаве.
Уже при мне, в 1992 году, бежали в США два сотрудника СВР: из Бельгии и Финляндии. И самым, пожалуй, крупным предателем оказался полковник Ощенко, находившийся в командировке в Париже. Он был завербован английской спецслужбой и тайно вывезен в Великобританию. Все трое тоже были из научно-технической разведки, а Ощенко даже ждало повышение в Центре, куда он должен был вскоре прибыть, так как его загранкомандировка близилась к завершению.
Что сыграло основную роль в его поспешном бегстве? Ознакомившись с выводами специально созданной комиссии, я заключил, что, может быть, он побаивался возвращения, так как перед новым назначением в Центре должен был пройти очередную проверку, которая с большой вероятностью могла бы показать его преступную нечистоплотность, – как выяснилось, Ощенко уворовывал из средств, выделяемых ему для расчетов с источниками. Что касается наших достоверных данных, то мы знали: Ощенко представил своим хозяевам из СИС, наряду со списком агентуры, совершенно другую версию своего поспешного ухода из Парижа.
К слову сказать, мы сразу же отступили от той практики наказания в той или иной форме тех, кто давал перебежчику положительные характеристики, начиная чуть ли не с учебных заведений. Жизнь показывала, что в ряде случаев те черты характера, которые приводили к измене, возникали не во «младенчестве». Мы стали анализировать недостатки в работе подразделений Центра и резидентур. Это было сделано со всей принципиальностью при участии А.Л. Щербакова, курировавшего научно-техническую разведку.
Я здесь пишу о предателях. А сколько было неудавшихся вербовочных подходов за это время к сотрудникам наших спецслужб, особенно перед тем, как они заканчивали свою работу в загранучреждениях и возвращались в Россию.
Став директором СВР, я ознакомился с документом Центрального разведывательного управления США по методике вербовочной работы. ЦРУ создало своеобразную «модель вербуемости», выделяя такие черты объекта, как «двойная лояльность», самовлюбленность, тщеславие, зависть, карьеризм, меркантилизм, сексуальная неразборчивость, склонность к пьянству. Особое внимание обращалось на неудовлетворенность служебным положением, семейными отношениями, жизненные трудности, сопровождаемые стрессами.
В документе приводилось три типа объекта вербовочных устремлений: «авантюрист» – ориентируется на достижения максимального успеха любыми средствами, стремится к более существенной роли, которая, как он считает, соответствует его данным; «мститель» – месть за свои обиды либо конкретным людям (руководителям), либо обществу в целом; «герой-мученик», стремящийся любой ценой выйти из неблагоприятного для него стечения обстоятельств.
Что касается идеологической, политической подоплеки вербовки, то в «модели» ЦРУ она, должно быть, отсутствовала не случайно. По словам двух бывших директоров ЦРУ, Р. Хэлмса и У. Колби, они не знали ни одного советского или российского перебежчика, который перешел на сторону противника по идеологическим соображениям.
С феноменом предательства я столкнулся еще задолго до того, как возглавил СВР. Работал в «Правде» в то время, когда арестовали Пеньковского – сотрудника Государственного комитета по науке и технике, полковника ГРУ. Масштабы того урона, который он нанес обороноспособности СССР, несомненно были более чем значительными. Его вербовка была успехом ЦРУ. Все это бесспорно. После того как советская контрразведка установила его связи с представителями Центрального разведывательного управления США и он был арестован, в зарубежной печати, как это обычно бывает, стали создавать вокруг него ореол героя.