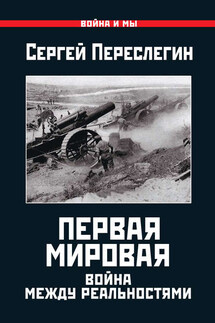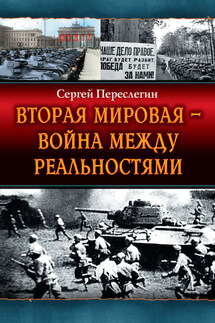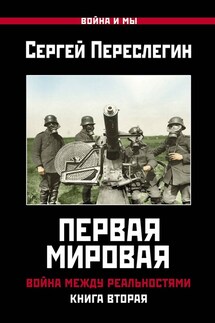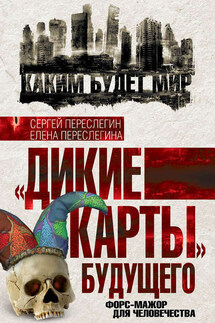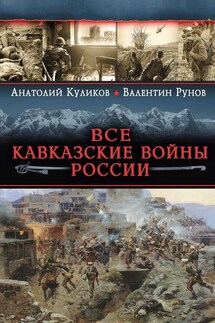Вторая Мировая – война между реальностями - страница 46
Вот и Гейнц Гудериан, в середине 1930-х годов увлеченно пропагандируя необходимость создания танковых войск, представлял себе танковую войну совершенно не той, какой она оказалась пять-семь лет спустя. Внимательно читая его книгу «Внимание: танки!», с удивлением обнаруживаешь, что пишет он о совершенно другой войне – вовсе не той, что в реальности вела Германия. Бессмысленно искать в этой работе описание той тактики танковых войск, какую вермахт использовал в своих победоносных наступлениях 1939–1942 годов. Ее там просто нет.
Куда более развернуто оперативных приемов и принципов танковых действий касается Гудериан в своей послевоенной работе «Танки – вперед!», хотя и здесь скорее склонен обсуждать организационные, нежели теоретические моменты. Он не говорит даже тех элементарных вещей, что мы изложили выше. Конечно, можно заподозрить, что «Быстроходный Гейнц» чего-то не договаривал, чтобы не облегчать жизнь потенциальному противнику – но, судя по всему, многие вещи просто казались ему самоочевидными, не требующими специального выделения.
Требования, сформулированные еще Сектом в наставлении 1921–1923 годов «Управление и взаимодействие родов войск в бою», подразумевали необходимость для офицера (а также солдата и унтер-офицера) обладать не просто рядом определенных знаний, а также неким набором привычек и навыков. Эти привычки и навыки можно было отработать только на практике, механическое заучивание уставов и наставлений (не говоря уже о теоретических работах) здесь не помогало.
Точно так же боевая реальность вносила коррективы в уже набранный на учениях опыт – и если мы еще можем проследить изменения организационной структуры под влиянием опыта боевых действий, то изменение личного (в том числе и плохо вербализуемого) опыта солдат и офицеров отследить крайне трудно. Можно лишь констатировать, что тактика блицкрига была гибкой и постоянно менялась как под воздействием полученного опыта, так и под влиянием меняющейся обстановки.
Увы, чтобы руководство Красной Армии до конца осознало ограниченность возможностей танков и определило, каким должен быть баланс пехоты, транспорта, артиллерии и бронированных машин, также требовался боевой опыт. Причем приобретенный не в специфических условиях Испанской войны, конфликта на Халхин-Голе или боев по прорыву «линии Маннергейма», а в обстановке классических маневренных действий.
Сообразно полученному опыту менялась и структура танковых войск. Это происходило как в вермахте, так и в Красной Армии. И в обоих случаях изменения были однонаправленными – уменьшалось количество танков, увеличивалась относительная численность артиллерии, транспорта и возимой пехоты. Очень часто встречается мнение о том, что недостаток танков в немецких танковых дивизиях сильно снижал их боевые качества. Однако в моторизованных дивизиях у немцев танков вовсе не имелось – и почему-то никто не воспринимает их как «неполноценые». Наличие или отсутствие танков значительно влияло лишь на возможность выполнения наступательных задач, причем в достаточно узком диапазоне условий. К примеру, как уже указывалось выше, для прорыва хорошо организованной обороны в первом периоде войны немцы свои танки старались не применять. В позиционной обороне танки также играют минимальную роль – для нее гораздо важнее общая численность войск, артиллерийская поддержка и масштабы подвоза боеприпасов. Последний критерий, кстати, является универсальным – наличие еды, патронов и снарядов гораздо важнее числа солдат, пушек и танков.