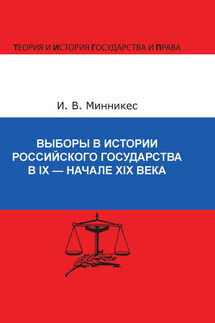Выборы в истории Российского государства в IX – начале XIX века - страница 45
Представляется, что приведенные ранее факты летописи не доказывают, что веча, инициированные князем или осподой, качественно отличались от «самостоятельных» собраний горожан.
Иногда с инициаторами связывают вопрос о месте проведения веча. По версии М. С. Грушевского, «местами веча являются площадь у св. Софии, Ярославль двор, Угорское, торговище и площадь у Туровой божницы; в первых трех – у св. Софии и на княжеских дворах – собиралось вече по зову князя, в последних, на Подоле – по собственной инициативе; так, вероятно, оно было и в других случаях».[342] Идея, безусловно, интересная, хотя автор признавал лишь «вероятность» такого разделения.
Важнейшим вопросом, связанным с участниками выборов, является вопрос о субъектах, принимавших решение по кандидатуре (участниках веча). Именно они, по сути, представляли собой избирательный корпус.
Принятие вечевого решения являлось определяющим моментом процесса «призвания» князя, избрания владыки, «поставления» посадника или иного лица. Поэтому вопрос об участниках выборов вполне обоснованно связывают с проблемой состава веча.
Анализ качественного состава участников веча необходимо предварить несколькими замечаниями.
Первый вопрос, который необходимо разрешить – существует ли прямая зависимость между составом вечевого схода и его законностью? М. Ф. Владимирский-Буданов отвергал разделение вечевых сходов на законные или незаконные, но, тем не менее, противопоставлял «всенародному» собранию те случаи, «когда кучки граждан собираются по домам».[343] Л. О. Плошинский относил веча, в которых принимали участие «все граждане без различия» и «буйные волнения народа», т. е. собрания населения исключительно низшего разряда, к неправильным.[344]
О. В. Мартышин выдвигает три основных критерия законности веча: присутствие на нем всех должностных лиц, представителей всех пяти концов Новгорода и всех социальных групп. Правда, доказательства первого требования в виде печатей должностных лиц не слишком убедительны, ведь печати привешивались после оформления решения в вечевой избе, а не на вече. Аргументом в пользу обязательного присутствия пяти концов автор считает неодобрительное отношение летописца к событиям 1359 г.: «бысть мятеж силен в Новегороде; отъяша посадничество у Вондреяна Захарьиница, не весь город, токмо славеньской конец, и даша посадничество Селивестру Лентиеву».[345] Хотя квалифицировать как мятеж можно не только действия по отнятию посадничества (как это делает автор), но и предшествовавшие события (во всем Новгороде был мятеж, в результате которого смещен посадник Захарьиниц), можно согласиться, что, скорее всего, вече, состоявшее из жителей одного конца, вряд ли могло с полным правом принимать важные политические решения.
Последний критерий – обязательное участие в вече всех социальных групп. «Вече, состоявшее из одних только черных людей, не признавалось правомочным, – подчеркивает автор. – Под 1337 годом Новгородская летопись сообщает: "наваждением диаволим сташа простая чадь на анхимандрита Есифа, и створиша вече…"».