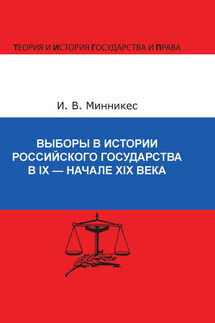Выборы в истории Российского государства в IX – начале XIX века - страница 48
Презумпция о сидящих вечниках основана на весьма немногочисленных фактах. Действительно, в летописи есть фраза о том, что «…Славляне в доспесех подселе бяху»,[364] но это может означать не только, что они сидели на чем-то, но и что они насели на кого-то. Это больше соответствовало ситуации – ведь на Ярославовом дворе, по свидетельству летописи, была настоящая сеча, окончившаяся разгоном заречан. Относительно другого упоминания о сидящих вечниках – в Киеве в 1147 г. – И. Я. Фроянов и А. Ю. Дворниченко верно подметили, что согласно Лаврентьевской летописи «множество народа… седоша у святое Софьи слышати», а по Ипатьевской они же «въставшем… в вечи».[365] Кроме того, летописец чаще всего пользовался фразой «сташа вечем».
Стоит отметить, что размер Ярославова дворища весьма значителен. П. И. Засурцев вслед за А. В. Арциховским утверждает, что раскопать все Дворище почти немыслимо (раскопанная площадь в 620 м за два сезона – существенное свидетельство значительных размеров дворища).[366] Вечевая площадь занимала часть этой территории, но какую именно – археологи не берутся точно указать. Кроме того, могла быть задействована часть уличных мостовых на примыкающих территориях. Поэтому эксперимент В. Л. Янина со скамьями и подсчетом возможного числа вместившихся на них людей весьма оригинален, но результаты его не бесспорны.
Интересно, что В. Л. Янин, М. X. Алешковский, Г. Бирнбаум допускают возможность присутствия толпы на вечевых собраниях: «его работа велась не за плотно закрытыми дверьми, а под открытым небом, в окружении толпы, неправомочной, но способной криками одобрения или негодования влиять на решения вечников»; «вече проводило свои дебаты на виду у публики, которая могла криками одобрения или недовольства убеждать себя, что принимает участие в принятии решения».[367] «Стало быть, – замечают авторы работы "Города-государства Древней Руси", – место для толпы, пусть неправомочной, все же нашлось».[368]
Есть и другие факты, противоречащие выдвинутой теории.
Во-первых, в большинстве городов существовало несколько мест сбора веча. У киевлян местом веча могла быть так называемая «Турова божница» подле Киева. Ее вместимость никем не определялась, но при целовании креста Игорю и его брату Святославу там нашлось место для вооруженных киевлян на конях, да еще и «с детьми».[369]
Во-вторых, археологические раскопки в Новгороде обнаружили площадь, которая, предположительно, служила местом сбора уличанского веча. Эта площадь по своим размерам «могла вместить около 260–320 уличан».[370] Сопоставление этих данных дает весьма сомнительную картину: городское и уличанское веча получились практически равными по числу участников. Вряд ли это предположение соответствует реальному соотношению численности городского и уличанского веча.
В-третьих, вече – институт старый, существовавший еще в те времена, когда население Новгорода было меньше в сравнении с XIV–XV в. Рост числа жителей не мог повлечь изменения размеров вечевой площади из-за плотной застройки территории.
В-четвертых, трудно представить, что на вече каждый раз собирались все имеющие на то право. Как верно отметил А. Лимберт, «можно было иметь право участия в вечевых собраниях, но не осуществлять этого права».[371]
Ограничение авторами первой группы количественных показателей веча, естественно, определяло и его социальный состав. Сторонники концепции малочисленного веча относят к его участникам знатнейших горожан, в основном бояр, чья сила базировалась на земельных владениях; владельцев больших новгородских усадеб.