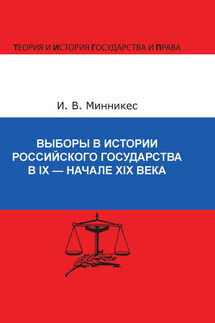Выборы в истории Российского государства в IX – начале XIX века - страница 56
Во-вторых, вятчичам было предложено целовать крест «за великаго князя от велика и до мала»,[448] на вече у Туровой божницы Игорю и его брату Святославу «…целоваша вся Кияне хрест и с детьми».[449] Это значит, как верно отметил М. Н. Покровский, «что Игорю присягали не одни только главы семейств, «дворохозяева» по-теперешнему, а действительно весь народ – т. е. все взрослые мужчины, способные носить оружие».[450] Правда, автор не связал вопрос о крестоцеловании с правом участия боеспособных «детей» в вече, но это представляется вполне обоснованным выводом.
В-третьих, в грамотах XV в. среди участников веча не раз упоминаются «дети». Так, ганзейские города, судя по договорам 1423 и 1436 г., отправили послов в Новгород не только к архиепископу, посадникам (включая «старых посадников»), тысяцким, боярам, но и к «детям купеческим».[451]
Исходя из приведенных соображений, фразу «пойдем и с детьми» можно трактовать не только в контексте ручательства старшего родственника за себя и за домочадцев. Вполне вероятно иное толкование: это обещание большой рати, включающей как опытных воинов, так и тех, кто еще ни разу не участвовал в походе. Другими словами, военный сбор «с детьми» может означать, что в случае похода князя Юрия на Ольговичей и Изяслава на Чернигов к ним присоединится все боеспособное население территории от опытных бойцов до молодежи.
Представляется, что «дети» – это не только и не столько понятие семейно-хозяйственной сферы. В сфере государственных отношений «дети» – это молодежь, которая начинает учитываться при формировании ополчения. Именно в таком аспекте летописец использует фразу «от мала до велика», описывая события 1078 г., когда Всеволод «повеле збирати вои от мала и до велика; и бысть вои без числа…».[452] Эта версия соответствует опыту многих древних государств, например, Афинского или Франкского, где участие в собраниях было обусловлено военной службой.[453]
Думается, что контингент участников веча сходен с составом ополчения. Исходя из этого, вполне возможно участие в вече не только отцов семейств, домохозяев, но и боеспособных «детей».
3.2.3. Территориальный критерий участия в вече
Позиции исследователей относительно территориальных рамок участия в вече можно объединить в две группы.
Первая группа авторов (И. Д. Беляев, В. О. Ключевский, М. Н. Покровский, Н. Н. Воронин, О. В. Мартышин, М. Б. Свердлов и др.) признает право голоса только за горожанами. Например, М. Б. Свердлов прямо называет веча XII–XIII в. «формой политической активности городского населения».[454]
Один из краеугольных камней теории – фраза летописца «на что же старейшии сдумают, на том же пригороды станут». Но тот факт, что на пригороды распространялась административная власть главного города, совершенно не свидетельствует об исключении из состава веча их жителей. Представляется вполне обоснованным мнение А. Ю. Дворниченко о том, что «в сознании древнерусского человека главный город и волость – зависевшая от него земля – были теснейшим образом связаны между собой. Понятие «город» переносилось на всю волость, а соответственно и под названием «кияне», «полочане» и т. д. скрывались жители не только главного города, но и всей волости».[455]
Большинство авторов (Н. Н. Андреев, В. П. Алексеев, М. Ф. Владимирский-Буданов, М. А. Дьяконов, В. Н. Крылов, А. И. Никитский, С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков, М. Н. Петров, В. И. Сергеевич, В. Н. Вернадский, А. Ю. Дворниченко, Н. А. Рожков, С. В. Юшков, И. Д. Фроянов, В. В. Луговой и др.) считают участие пригорожан в вече старшего города вполне возможным. Скажем, В. В. Еремян и М. В. Федоров отметили: «Хотя вече всегда созывалось в столичном (волостном) городе, тем не менее, представители пригородов имели право не только присутствовать на нем, но и голосовать».