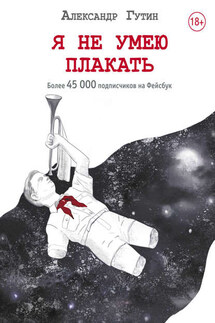Я не умею плакать - страница 27
Назавтра пришли те же. Витя деньги вперед попросил. Те спорить не стали, вынули пачку ассигнаций, попросили пересчитать. Витя взял и про деревню рассказал. Левый с усами поблагодарил, а безусый молча руку пожал.
Короче, Назарова повязали в тот же день. Судили. Прокурор странный попался, все жалел Назарова, вел себя как-то не по-прокурорски. Но судье-то что. Его Сидоров уже давно проинструктировал. Закрыли Назарова.
Но Сидорову и этого мало было, чем уж ему Назаров насолил, непонятно. Зря, зря, тот в политику полез. Ошибку допустил непоправимую.
Одним словом, на пересылке Назарова к нарам привязали крестом, руки в стороны, и оставили на морозе. Правда, кто-то из блатных, особенно сердобольный, сжалился над страдальцем, заколол его заточкой прямо в сердце. Не стало Назарова.
А Витя с чего-то мучиться стал. Деньги не в радость, как получил, так и лежат стопочкой в ящике для инструментов, чтобы Лилия Владимировна не нашла. Пытался взять, купить что-нибудь, да не смог. Сил нет, сердце болит, мучения одни.
В городе же буча началась, стали общак назаровский искать. Петька Апостолов исчез бесследно вместе с деньгами. Искали долго, но того как корова языком слизала. Шептались, что Петьку в Италии видели, не то в Риме, не то еще где-то. Но толком никто ничего не знал. Так и замяли вопрос.
Сын Сидорова хлебозавод себе забрал. Ничего вроде, работает.
А Витя все терзался, до психушки себя довел, месяц наблюдался, вроде на поправку пошел, выписался. А на следующий день повесился, дурак. Прямо за домом на осинке.
Лилия Владимировна после его смерти неожиданно похорошела, в Египет съездила, ремонт, говорят, затеяла, и у Лукова его «одиннадцатую» купить хочет. Луков пока думает, но скорее всего согласится.
Наденька и Шаповалов
Наденька была женщиной эфемерной, к поцелуям зовущей. Именно так определяли ее подруги. Вся утонченная, от лодыжек до запястий, Наденька любила все красивое и милое. Золотые колечки на своих тонких пальчиках, витые рамы эстампов на стенах своего будуара, длинные резные мундштуки, дымящиеся в ее кружевных перчатках. Все вокруг нее было таким же возвышенным и прекрасным, вплоть до тойтерьера Чарли, маленького, пучеглазого и дрожащего. Но даже в этой осиновой дрожи было что-то воздушное и легкое.
Тем более никому было не понятно, что связывало Наденьку с Шаповаловым. Мужчиной грубоватым, происхождения пролетарского, с большими ковшевидными ладонями, торчащими из рукавов мундира майора особого отдела.
– Валерочка, котик, налей мне шампанского, – улыбалась Наденька.
Шаповалов болезненно морщился, его коробило от этого «котика», но шампанское безропотно наливал.
– Валерочка, зайчик, твоя киса хочет в ресторан! – капризничала Наденька.
Шаповалова выворачивало наизнанку от всех этих зоологических эпитетов, но он вел ее в лучшие рестораны города.
Несколько раз он просил Наденьку не называть его котиком, зайчиком и прочими солнышками. Но Наденька пожимала плечами и мурлыкала:
– Малыш, ну что ты такое говоришь? Хочу цветочков! Купи мне розочки!
Шаповалов терпел. Но самое ужасное, что Наденька не унималась и тогда, когда рядом были сослуживцы по особому отделу.
Те, конечно, ничего не говорили, а только посмеивались в кулак и недоуменно переглядывались. Их жены были не такими. По большей части это были крепкие русские женщины, которые называли мужей по фамилиям. В лучшем случае по именам. Но не Петя там какой-то и не Коля, а непременно Петр или Николай.