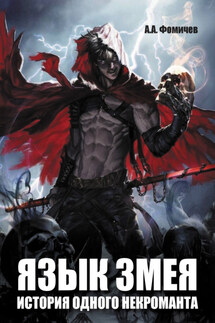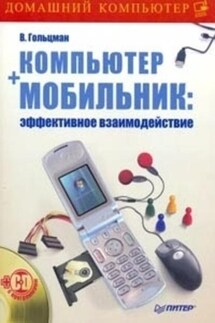Японское искусство войны. Постижение стратегии - страница 9
Провинциальные храмы тоже напрямую подчинялись правительственной машине, являясь неким эквивалентом нынешних городских муниципалитетов и гражданских контор. В ведении многих местных храмов находилось также начальное образование, но программа сводилась преимущественно к трактовке неоконфуцианства, причем в утвержденной властями редакции. Мирянам запретили проповедовать учение Будды, даже в том случае, если их компетентность признавалась церковными кругами. Каждая буддийская школа должна была представить на утверждение властей основные положения своего учения, после провозглашения которых догматами уже запрещались всяческие нововведения.
Утагава Куниёси. Окадзима Ясуэмон Цунэтацу, защищающийся с помощью деревянного каркаса от жаровни. XIX в.
Буддизм всегда считался таящим угрозу для государства, если только не был частью механизма осуществления власти последнего. Попытки сёгуната Токугава заранее загнать дзэн в узкие рамки и ограничить его возможности имели место еще в XVII столетии, когда возрождение дзэн только начиналось. Но потом был найден определенный «компромисс» – и явная внешняя угроза для дзэн сменилась в XVIII веке привязыванием его к статичным формам.
Согласно дзэнской литературе по практикованию, характерными симптомами привязывания к формам являются очарованность вторичными феноменами и неспособность пробиться к подлинному творческому началу. Это рассматривается как привычка сознания, обычно функционирующая как на индивидуальном, так и на коллективном уровне человеческой истории, которую необходимо заново преодолевать каждому поколению. Когда после многократных попыток лишить адептов, поколение за поколением, вдохновения и загнать их в круг предписанных и ограниченных догм и систем, дзэн-буддизм стал запутанным, сложным и неестественным, он вновь оказался формализованным. Официальный дзэн являл собой жалкую пародию на изначальное гибкое дзэнское учение, инициировавшее возрождение дзэн-буддизма в XVII столетии.
В середине XIX века, с падением третьего сёгуната, восстановлением императорской власти и окончанием полной самоизоляции Японии, продолжавшейся все позднее средневековье, дзэн-буддизм подвергся новому давлению. В самой Японии на буддизм, как на иноземную религию, нападали официальные синтоистские круги, под руководством императора. Антииностранную и антибуддийскую политику идеологически оформляли представители крайнего ксенофобского академического движения «Кокугаку», «Патриотическое учение», возникшего еще в предыдущем столетии и пользовавшегося теперь большой популярностью. Многие буддийские храмы были конфискованы и превращены в синтоистские святилища.
Из-за границы буддизму угрожали агрессивные христианские миссионеры, пытавшиеся связать западные технические знания, к которым открыто стремилась Япония, с христианством в западном понимании. Поскольку метод христианских миссионеров отчасти строился на критике и разоблачении местной религии, которую призвано было заместить христианство, многие из первых западных исследователей буддизма тоже начинали с этого, что в большой степени влияло на их концепции.
Утагава Куниёси. Сугэноя Саннодхё Масатоси падает, пытаясь перерубить мечом кисти кусудама, опутавшие его. XIX в.
Японские буддисты по-разному отвечали на вызов европейцев. Одни еще глубже погружались в сокровенную суть буддийских сутр, чтобы защитить свою веру от западной клеветы. Другие становились йогинами, поборниками дисциплины или мастерами боевых искусств. Третьи, однако, пытались подражать методам западных ученых и с их помощью старались анализировать свои классические сочинения и свою историю, становясь, таким образом, профессиональными интеллектуалами и представителями академической науки в западном понимании.