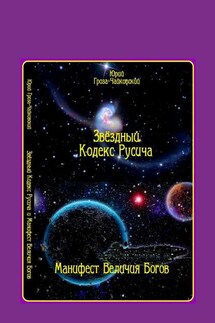Ясные дни в августе. Повести 80-х - страница 51
Креслице, на котором он любил сидеть – это давно – и качать ногой. Читал что-нибудь легкое, к случаю или ко времени. Сейчас февраль… «Я притихший февраль меж друзей за столом не заметил, я при утреннем свете не смог различить его глаз, он сидел среди нас, словно тень на весеннем портрете, и, наверное, ждал, когда скажут: февраль, не пора ль?» Не пора… Смеялся. Смеялся? Нет, кто ж в Городе смеётся? Или… нет, не рассмотреть, глубоко. На дне колодца лишь отраженья смотрящих. Значит, не смеялся. Не было креслица. Был табурет на кухне. И раскачивался он на нём весь. «Чоп-сара… Чоп-сара…» Неделю тому… и было еще чувство, что начали показывать другой, жуткий фильм, а они зацеловались на водевиле и не успели выбежать из зала. Она помнила такой сон, помнила, помнила, а потом догадалась, что это было на самом деле. Вот бы снова на самое начало сеанса. Чур! Чур! Не надо… Креслице, табурет… она на них не садилась, боялась каждой вещи, к которой имел отношение Город, а он имел отношение ко всему. Только со стороны жизнь огромна, и всего-то в ней случится ещё многажды и будет навалом, а попробуешь жить её сам и сразу тыкаешься: стена, стена, стена и лишь одно окошко на волю… в Город. Да, ещё – дверь с глазком.
Засаднило левое колено, что-то вроде личного знака беды. Спорь после этого, где у человека душа. Нет, наверное, там она только прячется, говорят же: душа в пятки. Квадратик неба на глубине потемнел, светилась лишь случайная строчка, оттуда, с креслица: «Беда в беде сидели, как матрёшки… Беда в беде сидели, как матрёшки… Беда в беде…» Разве сходу заговоришь, эх! Коленку начало жечь – вот он, юз по асфальту, – потом будто принялись сдирать с неё кожу – догнали… обида, злость бессильная: «Новенькую догнали!». Слёзы… дети тоже плачут не от боли, а от бессилия перед ней.