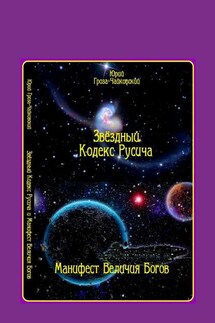Ясные дни в августе. Повести 80-х - страница 56
Тогда и он усмехнулся – так, что она узнала в нём настоящего Женьку, её гордого поэта, который не переносил обид, и если они случались, защищался от них именно такой усмешкой, – усмехнулся и на две недели затянул нудную песенку из с одного слова: «чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара…» – и опять: «чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара…» и ещё, и ещё, и ещё. Сидел у окна на табурете, медленно раскачивался взад-вперед с папироской в кулаке и пел: «Чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара..» Смотрел, как защищает от колобродящего во дворе февраля свою снежную берложку чудной упрямый пацанёнок и пел: "Чоп-сара, чоп-сара, чоп-сара…» – и никуда это слово не исчезало, так как ничего не означало. «Чопом» он отламывал с муляжа неровные гипсовые кусочки и представал под ним дикарем-невольником, ничего не понимающего на этом берегу и занятого исключительно тем, чтобы вызывать и вызывать спрятанный за звуком образ берега другого, где никто не требует имени, где разодранный рот и есть настоящая улыбка. Замерев в тени коридорчика, она слушала и гадала, что же это за берег, где он начинается, напрягалась заглянуть в то далеко, а видела сквозь не вытекающую слезу только гугливую рожу Города – тут, рядом, за окном. Лишь однажды высветилась и лесная эстрадка, на краю которой, обняв гитару и прижав гриф колками к виску и щеке, стоял кудрявый юноша и читал… Он всегда сначала читал, потому что ему было что почитать, потому что кроме, как в лесу, читать было негде – Город поэтов на дух не переносит, и ещё потому, что лучше, чем эти, вырвавшиеся из каменных тенет непослушные дети, продрогшие и продымленные, слегка ошалелые от неожиданной, но, значит, всё-таки возможной, существующей воли, слушать никто не умел: во всяком слове, начинавшемся не с «Да здравствует!..» они, брезентовые беглецы, уже готовы были слышать откровение и живую истину. И слышали. Он читал, все замирали, но от эстрадки в стороне, сбоку, сбоку, в проране расписной штормовочной кольчужки поляны тихо шептались две те самые куклы, прикрывшие синюю казенную кожу похожими на штормовки гороховыми фуфайками:
«…а не надо дожидаться, когда они станут, наваландаешься потом по англетерам… зарань надо, пока они простые женьки, сеньки да серёньки…»
«А вдруг…»
«С нас-то какой спрос? Ну, шатался по лесу какой-то бродяга с гитарой…»
«А отличить как? Какой станет, какой нет…»
«Не в носу ройся, слушай. Как захолонет меж рёбер, будто дырка в фуфайке – наш…»
«А вдруг не захолонет, вдруг мимо просклизнёт?»
«Всё у тебя вдруг…Не просклизнёт, с запасцем загребём…Ты чего тут, девочка?..»
Было? Или это придумалось, приснилось ей потом? Увиделось? Но ведь и он их видел, своими чистыми синими лазерками видел их на двенадцать лет вперед, на лестнице, в подъезде вон у той, нахмурившейся его стихам девчонки, один будет бить ребром ладони по шее, другой шипеть сквозь зубы: «Каз-з-зёл!» Видел, знал, что они уже от него не отвяжутся, и уже тогда безнадежно молился такими ясными воспоминаниями о своем будущем: «Выпусти!» Все было правдой, только еще не наступившей и в то же время давным -давно уже правившей тем миром… на виске от колков останутся три долгие красные запятые… «Пуст я как мяч, как бездонная бочка, как роженица, как скрученный тюбик. Лишнее слово, ненужная строчка, ночи загубленной стылые губы… Вот у гитары болит поясница, зубы колков раскрошились до срока, смотрят неладно ладовые лица, нижнее «мы» дребезжит одиноко, – фуфайки начинали топтаться, ей приходилось вставать на цыпочки… – Вот – не поётся, не пьётся, не спится, прежняя злоба выходит изжогой, каяться рано, поздно молиться, да и едва ль докричишься до Бога. Не растрясти его жалким фальцетом, верхние ноты завалены нижними, тонкие нервы сжаты пинцетами, толстые – сдавлены пассатижами. Долго до света, Господи, долго… Выпусти – вылечу! Вылечусь, выпусти из-под спокойствия душного полога, из духоты изнуряющей сытости. Выпусти! Видишь, как в омуте Города вздохами дальними, криками ближними люди друг в друга тычутся мордами, плавятся свечками, давятся вишнями, бьются, едятся, ломаются, гнутся, прячутся в рачницу липовой милости, лишь перед самым концом встрепенутся и завопят истерически: Выпусти! – фуфайки стояли смирно, прижав локти к бокам, но распрямив плечи, и ей казалось, что теперь дочитать они могли бы и сами: – Выпусти! – Выкуси! Бейся меж рёбер! Выплеснись, выцедись сеткою трещин. Ты сам себя ни за что покоробил – лишняя строчка, ненужные вещи. Вещее, но – бесполезное слово, толка из слова током не вытрясти… Но все равно повторяется снова: Выпусти! Выпусти! Выпусти! Выпусти!.. Не верещи, ты давно уже выпущен. Вытащен, изгнан, свободен, бездомен, вылизан, выеден, выпит и вылущен… Что ж, не выпусти, так наполни!.. Полноте, завтра закончим страницу, пойте, играйте, попрыгайте скоком… Но у гитары болит поясница, зубы колков раскрошились до срока…»