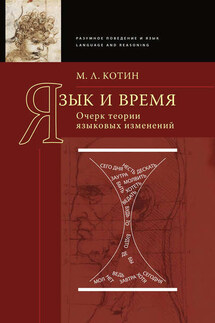язык в силу присущей ему способности к именованию предметов и явлений окружающего мира, благодаря которой он обладает особым свойством познания, кардинально отличающим его от животных, хотя, по Гердеру, эти последние также имеют некое подобие языка, так что вычленение человека из животного мира имеет эволюционную, а не онтологическую основу. Победа в конкурсе была присуждена Гердеру, поскольку его объяснение членам жюри показалось более логичным и последовательным. Понятно при этом, что как сам вопрос, заданный авторами идеи конкурса, так и аргументация каждого из его участников имеют мало общего с собственно научной постановкой проблемы и её решением, как они видятся с учётом современных представлений о языке и методах его исследования. Поэтому дискуссия между Зюсмильхом и Гердером сегодня имеет лишь исторический интерес. Дело здесь прежде всего в том, что ни Зюсмильх, ни Гердер не ставят кардинальных вопросов онтологии естественных языков, от ответа на которые могла бы зависеть обоснованность их аргументации. Вместо этого дискуссия заведомо предполагала чисто спекулятивный характер как самих постулатов, так и приводимых в их защиту или опровержение аргументов. Характерно, что вопрос о происхождении языка невозможно разрешить даже «догматически», опираясь на то, как оно описано в Священном Писании. Как было показано выше, Бог именует творимые Им сущности в процессе их создания, однако, создав человека – Адама, «поручает» ему именование животных и своей жены и в известном смысле самоустраняется от содействия ему в этом, лишь глядя на то, как именно Адам назовёт и животных, и жену (ср. Müller 1892: 20). Такое самоустранение Творца ни в коей мере не умаляет Его соучастия в создании языка, но ограничивается созданием необходимого и достаточного условия для этого – «вдыхания Духа» в человека. Парадоксальным образом мифопоэтическая картина возникновения языка в акте сотворения мира и человека оказывается поэтому более «научной», нежели попытка Зюсмильха спекулятивно «приписать» Богу некие действия по
обучению человека языку. Конечно, объяснить происхождение языка легче всего, если отказаться от самой идеи объяснения, ведь аргументация Зюсмильха является по сути формой такого отказа. Гердер попытался хотя бы отчасти дать, пусть наивное, объяснение, за что, собственно, и был поощрён теми, кто поставил вопрос о происхождении языка именно в данной плоскости.
В 1865 году было создано Парижское лингвистическое общество (Societé de Linguistique de Paris), одной из задач которого было обоснование научного подхода к языку и установление круга вопросов, которые в принципе может решить языкознание. Эти вопросы члены общества вознамерились достаточно жёстко отделить от тех, которые лингвистика не способна разрешить в принципе, а потому не имеет права задавать. Во втором параграфе своего устава Societé постановило, что оно не будет рассматривать работы, посвящённые происхождению языков12. Данное решение напоминает известный отказ Французской академии принимать проекты perpetuum mobile задолго до открытия закона сохранения энергии, просто потому, что множество предложенных к тому времени моделей вечного двигателя фактически не работали. Почему это было так, в то время объяснению не подлежало, но под давлением огромной массы негативного эмпирического материала было решено, что вечный двигатель невозможен по каким-то пока неведомым причинам, а «нужно исследовать то, что есть» (согласно словам президента Лондонского философского общества А. Эллиса, сказанным, правда, позднее, в 1873 году (ср. Stam 1976: 259)), не гоняясь за химерами. Подобной логикой руководствовалось и Парижское лингвистическое общество, что для середины ХIX века, когда приоритет методологии естественных наук и эмпирического подхода на фоне теории эволюции Дарвина, открытия клетки, магнитного поля и т. д. достиг своего апогея, было вполне ожидаемо. Правда, в отличие от проблемы вечного двигателя вопрос о происхождении языка так и не нашёл своего окончательного решения, а в последнее время ставится в лингвистике снова, хотя и в иной плоскости. Чарльз Ф. Хоккетт (Hockett 1960: 88) называет решение Парижского лингвистического общества «приметой времени»