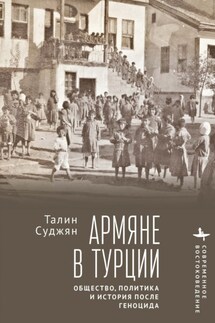Юношеские годы Пушкина - страница 24
– Положа руку на сердце – провинился.
Чачков заметно просветлел.
– Вот это я называю по-рыцарски: честно и прямо! – воскликнул он. – Ну, и за провинность свою заслужили вы какую ни на есть кару?
– Полагаю.
– Великолепно-с! Так вот-с, дорогой мой, извольте же сами продиктовать нам: чего вы заслужили, чтобы, понимаете, ни единое существо в поднебесной не могло утверждать, будто я даю вам, лицеистам, поблажку?
Пушкин прекрасно понял, кого Чачков разумел под «единым существом в поднебесной»; понял, что добровольно принятое им на себя наказание сослужит добряку надзирателю великую службу.
– Да пошлите меня до утра в карцер – и дело с концом, – сказал он.
Слегка озабоченные еще черты Чачкова окончательно прояснились. Он схватил обеими руками руки Пушкина и крепко потряс их.
– Вы – славный молодой человек! Я лично провожу вас. Эй, Прокофьев! Посвети-ка нам. А вот кстати и мой любезный коллега, – прибавил он, столкнувшись на пороге с экономом лицейским (иначе: надзирателем по хозяйственной части) Золотаревым, за которым два служителя несли ужин лицеистам. – Сделайте одолжение, Матвей Александрия, доставьте вот этому молодому человеку в карцер его порцию.
– Не трудитесь, Матвей Александрыч, – предупредил тут Пушкин, – отдайте мою порцию Броглио.
– Проиграли ему, знать, пари? – спросил Пушкина на ходу Чачков, ласково трепля его по плечу.
– Проиграл. Да варенье ваше меня отчасти вознаградило.
– Шалун! Ну что, небось мастерица варить супруга у меня, а?
– Мастерица – да; только посоветуйте ей вишни варить на сахаре; для такого нежного плода патока, уверяю вас, не годится.
На этом разговор их прервался: догонявшие их быстрые шаги и гулкий голос Золотарева: «Василий Васильич! А, Василий Васильич!» заставили обоих оглянуться.
Как корабль с распущенными парусами, летел к ним эконом с развевающимися фалдами длиннополого вицмундира. Выхоленное лунообразное лицо его приняло тот же лиловато-багровый цвет, которым, обыкновенно, отличался только мясистый нос его; воловьи, на выкате, глаза налились кровью и готовы были, кажется, выскочить из орбит; даже лучшее украшение его видного лица – густейшие, в виде котлет, бакенбарды, всегда так тщательно расчесанные, были в непривычном беспорядке: в одном из них запутались мелкие кусочки чего-то съестного.
– Помилуйте, Василий Васильич! – пыхтел эконом, задыхаясь от волненья и дико вращая кругом кровавыми глазами. – Это какой-то бунт… Всех бы их в кутузку!..
– В чем дело-с, дражайший коллега? – спросил с участием Чачков. – Виноват: у вас в бороде что-то засело. Если не ошибаюсь – начинка пирога?
– Чтоб им ни на этом, ни на том свете… – фыркал Золотарев, отряхаясь, как мокрый пудель. – Воротились, вишь, ночью, как добрые люди сладким сном почивают… Ничего бы им не подать… Нашла на меня еще дурь – подать им вчерашнего пирога с печенкой. А барчуки наши, вишь, брезгают, говорят: печенка протухла…
– Да, может, она и точно была не первой уж свежести? – деликатно заметил надзиратель. – Ведь время-то нынче жаркое: живо придаст ароматец.
– Как же без аромату? Сами посудите! Да мало ли на свете таких еще любителей, которым и рябчик не в рябчик, коли без изрядного душка!
– Однако печенка-то ваша была не от рябчиков?
– Чего захотели! Не по вкусу – ну и не кушай: прислуга либо собаки на дворе слопают. А то нешто это резон в рожу тебе швырять?
Чачков с трудом сохранил серьезный вид; Пушкин закусил губу, чтобы не прыснуть со смеху.