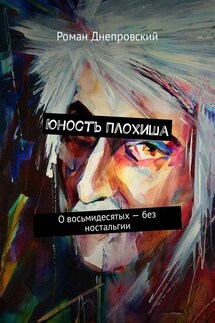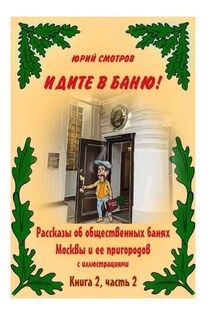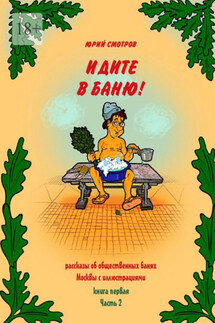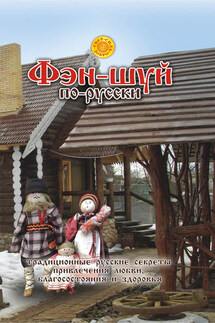Юность Плохиша. О восьмидесятых – без ностальгии - страница 34
И мы пошли Постигать Неизведаное.
Фонарики были у каждого из нас. Самодельные. К плоской батарейке на четыре с половиной вольта изолентой приматывалась маленькая лампочка так, чтобы её клемма на цоколе соприкасалась с короткой клеммой батарейки. Ну, а длинную клемму нужно было прижимать большим пальцем ко второй клемме лампочки – к той, что у неё на кончике. Такой вот «вкл/выкл»… Понятно, что никаких отражателей на этих самодельных «светлячках» не было – да мы и не задумывались о том, зачем они нужны: горит ведь?… светит?… чего ещё надо-то? Единственный настоящий фонарик был у самого старшего из нас, у Андрея – этот фонарик не нуждался в батарейке, его надо было всё время подзаряжать, нажимая рукой на специальную педаль или рычаг: этакий фонарик и эспандер одновременно, «два в одном».
Сколько мы шлялись по подвалу, я не знаю. Может быть, час. Может, больше. Мы обошли, кажется, все закоулки старого бомбоубежища, но другой выход так и не находился. Между тем, наши самодельные фонарики начали тускнеть, а то и вовсе гаснуть: в батарейках кончился заряд… И тут мы наткнулись на какой-то непонятный ход: он начинался в одной из маленьких комнатушек – тех, что были между залами – и уходил куда-то в сторону нашего двора. Но это ещё не всё: из этого низкого и тёмного хода на нас дул самый настоящий ветер! И пах этот ветер прелыми листьями, осенним вечером, двором… свободой…
Не раздумывая, полезли мы в этот низкий тёмный ход – один за другим. Андрей со своим супер-мега-фонариком был впереди всех. Ход этот был настолько низким, что мы ползли на четвереньках. Но не проползли мы и двух десятков метров, как упёрлись в закруглённый кирпичный тупик: мы оказались на дне какого-то кирпичного колодца – а прямо сверху на нас дул тот самый ветер, что заставил нас лезть в эту дыру. В стену колодца были вделаны надёжные железные скобы ступени – и мы тут же полезли наверх! Я не знаю, смогли бы в других условиях несколько десяти-двенадцатилетних сорванцов, зависая на пятиметровой высоте, сбросить тяжеленную чугунную крышку, закрывавшую люк – но у нас это получилось! Мы были на свободе!!!
Тут же была раскрыта ещё одна загадка нашего двора – так называемая «крепость». Эта «крепость» представляла собой невысокое – где-то, в полметра высотой – круглое кирпичное сооружение, наверху которого находился тот самый люк, крышку которого мы сбросили. А «крепостью» это сооружение было прозвано потому, что большинство кирпичей, из которых оно было сложено, не соприкасались торцами друг с дружкой, и между них были отверстия, наподобие крепостных бойниц. Боже, сколько же оловянных солдатиков, игрушечных машинок и прочих сокровищ было по глупости и неосторожности засунуто в эти «бойницы» и попадало на дно этого колодца!… А это, оказывается, был запасной выход из бомбоубежища – а заодно, и вентиляционная шахта, по которой в бомбоубежище поступал свежий воздух. А мы-то и знать не знали… Теперь понятно, почему Полина Абрамовна, предводительница глубоко враждебного нам племени Одиноких Дворовых Старух всегда орале на нас своим страшным каркающим голосом, когда мы лепили на «крыше» «крепости» снеговиков, и вообще подходили к ней: это, оказывается, был Стратегический Оборонный Объект – и она его от нас охраняла!…
Ладно. Мы остались живы, целы и невредимы. Мы выбрались на свободу. Все следующие дни мы лазали на дно этого стратегического люка – и там, на дне, среди «культурного слоя» затяиваемой десятки лет в эту вентиляцию пыли, мы находили маленькие сокровища – наши потеряные игрушки. Свои и чужие. В том числе, наверное, и те, которые побросали туда когда-то наши родители.