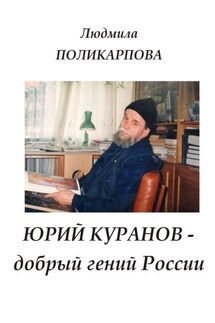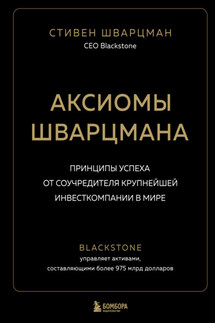Юрий Куранов – добрый гений России - страница 2
Вольным цветением Юра Куранов мог наслаждаться только в самом раннем детстве. В становлении его, как художника, видимо, сыграла роль творческая атмосфера в семье; и в роскошных залах величественных дворцов (воспринимавшихся как пространство своего дома), с представленными в них произведениями великих мастеров, он мог получать уроки радужного осязания великолепия мира. Эти впечатления, наряду с другими светлыми впечатлениями детства, были каплями благодатной росы для его восприимчивого сердца – так что последующие суровые испытания не смогли его очерствить и иссушить.
«Я родился в то время, когда развитию нашего искусства, нашей русской литературы, как и всей нашей культуры вообще, был положен предел. Ещё не развернулось движение вспять, но кровавый маховик этого движения уже делал первые обороты. Моя мать, сотрудница Русского музея и одна из любимых учениц Павла Филонова, в 1928 году подготовила большую выставку работ этого… гениального живописца и провозвестника эпохи всеобщей обезличенности. <…> Необычный художник… уже воспроизводил на своих полотнах те обезличенные реки вымотанных непосильным трудом и всеобщим заблуждением толп, которые вгонялись в железобетонные шлюзы новой социальной системы. Но Филонов пел их. Вскоре он сам станет жертвой этого потока» («Воспоминание о детстве»).
Жертвой этого потока станет и отец Юрия Куранова. Летняя ночь 1936 года, ночь обыска и ареста отца по сфабрикованному нелепому обвинению в троцкизме, оставит неизгладимый след в чуткой душе ребёнка.
«Мне было пять лет, когда среди ночи я проснулся в тревоге и с внезапным чувством обречённости. Я ещё не знал, что чувство это останется в сердце моём на долгие десятилетия… Какой-то странный звук оцепенил всё пространство вокруг меня, он шёл из-за дверей… Казалось множество каких-то змей заполонили квартиру и ползли по столу, по потолку, по стенам…
Мне стало страшно, но я не заплакал. Но кто-то почувствовал, что мне страшно, он осторожно приоткрыл дверь и прошёл в комнату. «Спи, Юрочка, спи», – сказал он, приблизившись к моей кроватке. Это был не змеиный, но вполне человеческий голос, и я понял, что это тётя Тоня, младшая сестра моего отца.
– Мне страшно, – сказал я.
– Ничего, успокойся, это ошибка. Всё скоро кончится, – прошептала она.
– Что кончится? – спросил я.
– Обыск, – растерянно ответила она.
– Я хочу к папе, – сказал я.
– К папе нельзя, – сказала тётя Тоня.
– Почему?
– У нас обыск.
Вой стеклянно звенел по квартире поверх змеиного шелеста.
– Это кто так? – спросил я.
– Это Полкан, – ответила тётя Тоня.
– А что с ним?
– Он плачет» («Плач»).
«…меня повели с ним (с отцом) проститься. Я совсем не понимал, что происходит, но воздух сделался вокруг совершенно непрозрачным, сквозь него видны были только общие очертания, и я видел фигуры чекистов только потому, что на них была военная форма…» (Из рукописных архивов Ю. Куранова).
Детство Юрия Куранова пришлось на период российской истории, когда в ужасающей бесчеловечности утверждалась жестокая тирания.
Здесь надо сделать пояснение.
Владимир Соловьёв в «Жизненной драме Платона» отмечает, что Платон, используя имя Сократа как героя своих диалогов, приписывает ему свои собственные мысли, порой такие, которые Сократу были не свойственны. Так в «Государстве» платоновский Сократ ратует за такое социальное устройство, в котором его бы ожидала та же участь, что и в демократических Афинах: так же несправедливо быть приговорённому к смерти. В свою очередь Владимир Соловьёв говорит о том, что Платон ещё немного бы и додумался до идеи воскрешения из мёртвых, которая была очень мила самому Соловьёву.