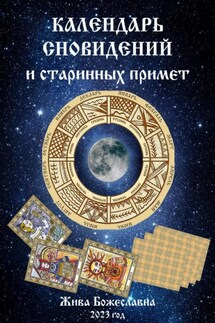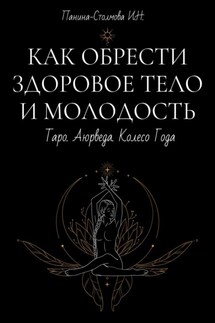За одним столом - страница 18
Мои несчастные глаза, красные от бессонницы, переполненные уроками итальянской красоты, принялись заново переоценивать весь мир классической живописи, что стало еще одной причиной для слез. Этот мир, который я знала по репродукциям и отчасти по экспозиции Пушкинского и Эрмитажа, рушился с катастрофической скоростью. Почти все, с чем я встретилась в залах Питти и Уфицци, в музеях Ватикана, было мне знакомо. Но в оригинале картины и фрески оказались не теми, и не такими, как я ожидала. Обострившееся зрение выдвигало какой-то новый критерий качества, оно требовало гармонии и совершенства, которых не находило в общепризнанных шедеврах. Микельанджело и Рафаэль рухнули сразу, при первом прикосновении глаз к стенам Сикстинской капеллы и Стансам. Пьедестал Леонардо едва удержался за счет рисунков, но живопись вся казалась не то зареставрированной, не то как-то еще испорченной. Ботичелли, Тициан – даже не хочу говорить, что это было. Ходила по залам в состоянии тихого внутреннего воя.
Счастье, что на руинах моих несбывшихся ожиданий сразу выстроился новый пантеон художников, которых привычная история искусств не то, что совсем не чтит, но все же числит где-то в третьем-четвертом ряду, среди малопопулярных. Фра Анжелико, Филиппо Липпи, Учелло, Джованни Беллини – вот мастера, которых непосредственный контакт категорически ставил теперь на первые места.
Тогда впервые почувствовала многих великих, о которых знала, что велики, но не могла по-настоящему понять их специфические гармонии – Джотто, Пьеро делла Франческа, Веронезе, Караваджо.
Здесь не место для искусствоведческих рассуждений или психологического анализа причуд моего «итальянского зрения», может быть, успею написать об этом в другой книге. Как бы там ни было, живописных переживаний было в избытке. И всю дорогу мне остро не хватало присутствия моего мужа, который один мог понять и разделить эти мои страсти.
Через долгих девять дней мы прилетели назад, в Москву. Боже, какой контраст!
Из аэропорта приехала к мужу и с порога говорю:
– Как жаль, что тебя не было со мной!
А он смеется и вынимает из нагрудного кармашка полоску бумаги, оторванную от газеты. Там его рукой написано:
– Как жаль, что тебя не было со мной.
Выход из тела
В 1990 году мы с мужем и свекровью переехали на улицу Остужева, которой позже вернули ее исконное гордое имя: Большой Козихинский переулок. Тут начался один из самых тяжелых в моей жизни периодов.
На самом деле, он начался еще раньше, в трехэтажном белокаменном доме на 1-м Колобовском, где мы жили до этого. Помню себя в этой квартире усердно читающей по вечерам детективы, а также вяжущей шарфы и безрукавки, чего не случалось ни до, ни после этого – верный признак глубокой депрессии.
Однажды мы с мужем вернулись поздно с какого-то спектакля (тогда мы часто ходили к Левитину в театр Эрмитаж). Свекровь уже спала, а из-под входной двери текла вода – прорвало трубу в ванной. Полночи мы черпали эту воду, ожидая приезда аварийной команды. Но заплатка на отдельной проржавевшей трубе не решала проблемы ветхой сантехники в целом. А у нас по стенам висели картины Владимира Вейсберга, учителя моего мужа. Муж покупал их у разных случайных владельцев, чтобы потом передать в музеи. Для холстов такая влажность могла оказаться губительной, и это пугало.
К этому первому испугу вскоре добавилось известие, что наш дом на Колобовском продали какой-то венгерской компании. Нас и наших соседей по лестничной площадке позабыли при этом переселить. Это был период перестроечного хаоса в России, когда все механизмы власти ломались, и бывшее государственное добро продавалось неизвестно кем неизвестно кому. Надвигалась осень, а в нашем проданном доме никто и не собирался включать отопление. Открывалась веселая перспектива зимовки в полуразрушенном доме, который согреть можно было только костром из дубового паркета.