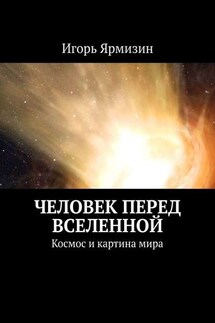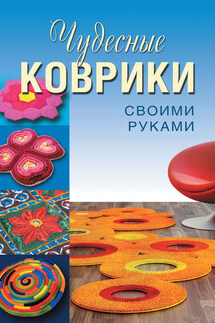Забытая цивилизация Запада. Издание второе, дополненное - страница 95
В сочинении «О граде Божьем» святой Августин сожалеет о войне, подчеркивая: кто может размышлять о ней или терпеть ее без душевной боли, воистину утратил человеческие чувства. Но если одни борются молитвой против демонов, то другие сражаются оружием против варваров. Таково требование реальной жизни. Ибо варвары желают уничтожить христианский мир.
Но какие бы ни были обстоятельства, священники не имеют права проливать кровь. Так, Леридский собор в 524 г. осудил на два года покаяния клириков, которые, находясь в осажденном городе, вынуждены были сражаться. В 742 г. декрет Карломана запрещает священникам носить оружие и вступать в армию. Карл Лысый в своем первом капитулярии даже уточняет: дабы они «не проливали ни христианской, ни языческой крови». Тех, кто раньше воевал, запрещено посвящать в сан: пролитая кровь лежала на них до конца жизни.
В целом отношение церкви к участию в войне продолжает оставаться неоднозначным. Уже во времена Карла Великого будущий архиепископ Майнца Рабан Мавр объясняет, что даже убивающие в сражении, по приказу государя, несут долю личной ответственности. Он подчеркивает, что на любой войне многие убийства вызваны жадностью и желанием снискать милость господина в ущерб предписаниям Господа. Поэтому они не полностью простительны.
В X веке солдату, совершившему убийство при исполнении служебных обязанностей, даже на «справедливой» войне, предусматривается наказание в виде 40 дней покаяния. А Фульберт Шартрский за подобное «преступление» требует каяться 7 лет.
Теория и реальность
Итак, поначалу существовала мечта о христианском обществе, организованном в форме двух сословий: первое – обычные люди – трудится и живет под руководством второго сословия, клириков. Они могут руководить, поскольку ближе к Богу, ибо заняты только службой ему. Кроме того, священники различают все оттенки божественной воли. Особенно это относится к монахам, хранителям старинного христианского идеала, не запятнанным скверной.
Но эта мечта рухнула под натиском жестокого мира. И вот уже в 846 году, когда сарацины овладевают Сицилией и грабят Рим, папа Лев IV, отставив молитвы и изыски относительно наказаний за убийство на войне, зовет на помощь франков. Он восхваляет их смелость и отвагу и, помимо прочего, обещает, что «небесные царства не закроют свои врата перед теми, кто примет честную смерть в бою», так как «Всемогущий ведает, что если кто-либо из вас умирает – умирает он за истинность веры, за спасение Отечества и в защиту христиан».
И именно здесь, в этой точке, где встретилось неразрешимое противоречие между христианским идеалом мирного служения небесам и жестокой реальностью, грозившей уничтожить и сам идеал и его носителей, произошло вынужденное слияние христианского миссионера и германского воина.
Помимо идеала, была потребность в справедливости, в защите слабого и обездоленного, особенно женщин, которые преобладали среди «униженных и оскорбленных». Напомним, человек того времени буквально жил посреди разбоя, войн, голода, эпидемий, притеснения сильным слабого. Милосердия церкви, ее утешения и благотворительной помощи явно было недостаточно. Чтобы противостоять земному Аду, нужна была сила. Но сила справедливая. И она возникла. А вместе с ней возник и рыцарский кодекс чести.
Как становились рыцарями
Вплоть до XII века путь в Защитники был открыт для каждого, кто проявит доблесть и другие необходимые качества. Некоторые рыцари даже вышли из крестьян, а кое-кто, наоборот, побыв рыцарем, вновь стал крестьянином. По причине, например, разорения, утраты коня и оружия. В те времена удавалось даже подняться с самого социального дна и стать аристократом. Бывало, за особые заслуги сеньор позволял жениться на своей дочери. Или родственнице. Приданого за них обычно не давали, но воин, происходивший из простых и даже «подлых» людей, породнившись с сеньором, «облагораживался» и допускался, пусть на самой скромной роли, в мир господ, откуда лежал путь в рыцари.