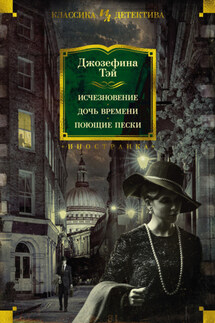Закономерности и метаморфозы этногенеза. Пять очерков о закономерностях взросления народов - страница 25
2) Надо полагать, что русские поселения с определённого момента и на долгое время находились под покровительством кабардинских князей, которые и сами привели сюда с собой толику русских служилых людей из южных районов бывшей Руси и затем неоднократно пополняли свои боевые дружины русскими поселенцами, в том числе и из Рязанского княжества. Думается, что именно такое тесное взаимодействие русского и кабардинского этносов плюс этническая память о боевом содружестве с русичами в домонгольский период привели к тому, что кабардинская княжна (дочь князя Темрюка) стала женою Ивана Грозного, а Кабарда в 1557 году добровольно отдала себя в подданство русскому царю и затем на протяжении многих лет участвовала едва ли не во всех военных предприятиях Московского государства. Причём, в состав возглавляемых кабардинскими князьями военных отрядов обязательно входили и гребенские и терские казаки [19, с.100,114].
3) Необходимо помнить при этом, что часть чеченских племён в это время находилась пусть в слабой, но зависимости от кабардинских князей [18, с.20; 19, с.102]. Последние считали чеченцев своими подданными и, надо думать, что военное превосходство (как один из факторов), благодаря которому Кабарда довлела тогда над Чечнёй, было в немалой степени обусловлено наличием казачьих отрядов, как одного из орудий ограничения чеченской независимости. Именно поэтому кабардинские князья покровительствовали расселению русских на благодатных землях по Тереку, Сунже и Аргуну.
И тут мы опять должны вспомнить, что динамика этногенеза, темпы развития (взросления) этноса – это всегда некий результат взаимодействия двух или нескольких этносов. Отсюда, в соответствии с закономерностями этногенеза, кабардинцы, придя на Северный Кавказ в XIII – XV веках [3, с.472] и, будучи в то время этносом более зрелым, нежели чеченский этнос, переживающий период детства, подчинили его своему влиянию и – совместно с русскими – придали необходимое ускорение взрослению чеченского этноса. Соприкасаясь с более зрелыми общественными отношениями, осваивая и совершенствуя привнесённые элементы агрокультуры (как, впрочем, передавая соседям и свой опыт сельскохозяйственного производства в горных условиях), примечая и обучаясь неведомым ранее политическим приёмам, воспринимая новую военную технику и новые способы ведения войны, чеченские племена быстро прогрессировали в своём развитии. И в какой-то момент – как результат роста национального самосознания быстро растущего этнического организма – возникла необходимость освобождения чеченского общества от кабардино-русской зависимости (впрочем, как и от кумыкской и аварской). Этому способствовали также и естественные разделительные процессы, происходившие в самом кабардинском обществе [19, с.30], стремительно теряющем свою монолитность параллельно с медленно, но неуклонно, консолидирующимся чеченским этносом. Кабарду раздирали внутренние усобицы, характерные для определённого (феодального) этапа этнического развития, и которые переживают все народы, независимо от их численности и времени исторического существования.
Именно развитие хозяйственных отношений, к тому же стимулируемое извне, начало толкать чеченское общество с гор на равнину. Увеличение поголовья скота требовало новых пастбищных угодий, освоение более интенсивного хлебопашества – новых земель для высевания зерновых культур и т. д. Вместе с тем, росла и численность чеченского населения. Таким образом, началось и стало нарастать, встречное русской хозяйственной экспансии, естественное движение взрослеющего чеченского этноса, заново осваивающего территории, покинутые нахами несколько столетий назад. Процесс этот был постепенным и не сразу оформился в вооружённое противостояние. Очевидно только, что чеченцы довольно быстро увидели в русских серьёзное препятствие своему движению на равнину, а, следовательно, преграду для саморазвития, тем более что казаки действительно являлись много лет союзниками кабардинской знати в деле ограничения независимости некоторых чеченских племён. Конечно же, экономическая необходимость, толкавшая чеченские племена с гор на равнину, совершенно не осознавалась ими как первопричина усиливающегося сопротивления процессу порабощения со стороны соседних народов. В этой борьбе превалировали идеологические, если так можно выразиться, мотивы сопротивления чужакам. Вообще же, это была естественная территориально-хозяйственная экспансия чеченского этноса встречь такой же, начавшейся на полторы – две сотни лет раньше, естественной территориально-хозяйственной экспансии русского субэтноса – гребенских казаков. С той лишь, однако, существенной, оговоркой, что земли, осваиваемые русскими, в древности были местом жительства нахов (о чём русские вряд ли имели представление), а в указанный период – сферой возрастающего хозяйственного пользования (собирательство, охота, рыбный промысел, пчеловодство и т.д.) преемников древних нахов – чеченских племён. Теперь последним, чтобы выжить и расти дальше, надо было отнять землю у русских поселенцев или у кабардинских (кумыкских, аварских) феодалов. Это был период, когда оказать серьёзное сопротивление расселению чеченцев на равнине русские уже не могли. Во-первых, на протяжении нескольких веков, вплоть до XVIII-го века, гребенские казаки жили изолированно от России и развивались как отдельный этнос, испытывающий сильнейшее культурное влияние соседних горских народов. Во-вторых, Кабарда, на которую опирались русские, всё более и более подпадала под турецко-крымское влияние. Кабардинцы, многие из которых ранее исповедовали православие, стали исповедовать ислам. Эта же религия активно распространялась среди чеченцев. Часть кабардинских князей осталась верной русскому царю, часть сочла необходимым связать свою судьбу с Турцией и Крымским ханством. Раскол и распри в Кабарде, единоверие части чеченцев и кабардинцев резко ослабили зависимость Чечни от Кабарды и в значительной степени ослабили позиции русских поселенцев, когда надёжно защитить себя и свои хозяйства они не могли. О коллизиях этого драматического противостояния У. Лаудаев пишет просто: