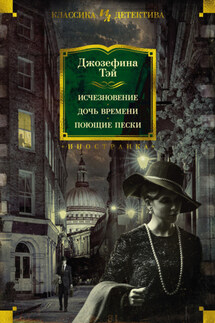Закономерности и метаморфозы этногенеза. Пять очерков о закономерностях взросления народов - страница 31
Взрослеющий чеченский этнос для своего успешного развития нуждался в материальных ресурсах. И если равнинная часть этноса способна была пополнять эти ресурсы во многом благодаря успешному ведению разнообразного хозяйства, то горская часть этноса, максимально ограниченная в смысле хозяйственного развития, могла пополнять эти ресурсы до минимально потребных только с помощью военных набегов на соседей. Таким образом угонялся скот – особо ценный показатель благополучия, захватывалось различное имущество, а, с какого-то времени, в полон, в рабство, забирались и люди (как только они приобрели в глазах чеченцев товарную ценность). Лаудаев говорит, что обычай брать в полон людей чеченцы переняли у абыхов [18, с.26], но, думается, что многие соседствующие с чеченскими племенами народы, в том числе и казаки, использовали пленных в качестве товара, и были не меньшим примером для молодого чеченского этноса в этом деле.
Чаще всего, маршруты набегов пролегали через зону расселения равнинных (мирных) чеченцев, и последние, в силу незыблемых родовых обычаев, вынуждены были давать приют своим горским сородичам, идущим за барантой, как тогда назывался угон скота, а на обратном пути укрывать их от преследователей, нередко, против своей воли. А это сильно осложняло нормальное течение хозяйственной деятельности. Русские, зная о многочисленности подобных фактов, были настроены крайне подозрительно, и даже враждебно, к, казалось бы, мирным своим соседям. С их стороны постоянно слышались упрёки в адрес плоскостных чеченцев в нарушении взаимных обязательств (а таковые постоянно брались клятвенно и чеченцами и русскими) по поддержанию мира в полосе соприкосновения их земельных и иных хозяйственных интересов [18, с.7—8; 19, с.315].
С другой стороны, горские (немирные) чеченцы и, нередко, две-три горячие головы из среды их равнинных сородичей, постоянно провоцировали мирных (и преднамеренно, и не преднамеренно) на нарушение этих обязательств перед русскими, эксплуатируя древние обычаи к своей собственной выгоде, но, очевидно, не к ближайшей выгоде своих равнинных сородичей. Равнинные тейпы, таким образом, находились под постоянным давлением с двух сторон, в чём они совершенно не были заинтересованы, так как это сопровождалось чрезмерными, если не сказать, смертельными, неудобствами. Ермолов – очередной и наиболее известный наместник царя на Кавказе – писал, что старейшины чеченских притеречных селений, «приезжая нередко в лагерь, уверяли в стараниях своих наклонить народ к жизни покойной» [13, с.304] …,«что в совещаниях их всегда находились люди нам приверженные, и от них обстоятельно знали мы, что известные из разбойников… возмущали прочих, что многие из селений, по связям родства с ними, взяли их сторону…» [13, с.305].
Из всего этого мы видим, как древние родовые установления встают на пути новых хозяйственных отношений и начинают мешать их развитию. Здесь это обнаруживается с неожиданной, но только на первый взгляд, стороны, когда единый этнос волею обстоятельств экономически (а, следовательно, и во всех других отношениях) разделён на менее развитую и более развитую части, и менее развитая заставляет более развитую использовать единые и для тех и для других обычаи и традиции против экономических интересов последней. И понимание этого факта приводит к росту противоречий между горскими и равнинными чеченцами, и заставляет равнинные тейпы под разными предлогами искать выход из сложившейся ситуации, вплоть до вооружённого противостояния (часто вполне обоснованного) своим горским сородичам. Решающая роль экономического фактора в этом процессе очевидна. Но также очевидна и роль фактора ландшафтного, который очень серьёзно влияет на процессы этнического развития, формируя по-разному представителей одного и того же этноса (нередко, это приводит к появлению родственных, но достаточно далёких друг от друга этносов, бывших когда-то этносом единым). Конечно, кровавые стычки постоянно случались между разными тейпами и раньше, в том числе и на почве территориально-хозяйственных разногласий, а также по причине всякого рода кровных обид. Но очень характерно на этом фоне звучит свидетельство генерала Ермолова: