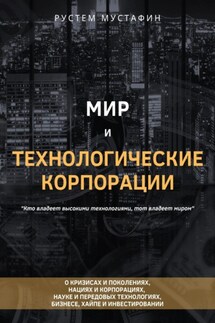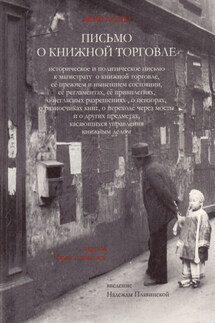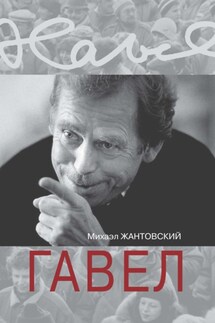Зами: как по-новому писать мое имя. Биомифография - страница 32
Дома дисциплинарные взыскания и выговоры откладывались, пока ужин не будет приготовлен и поставлен на плиту. А уж потом плохие отзывы обо мне, которые сестры в тот день получали в школе, извлекались на всеобщее обозрение, обсуждались, и мать вершила свой жестокий домашний суд.
В иные дни за особо лукавые и грешные проделки выносился зловещий вердикт: «Подождем, когда вернется отец». Он никогда нас не бил. Среди наших заграничных родственников ходил слух, что дядя Лорд такой сильный, что если он кого пальцем тронет, то сразу прибьет. Но само его присутствие при объявлении наказания делало порку более официальной и оттого еще более жуткой и устрашающей. Вероятно, отсрочка и благоговейное ожидание наказания имели тот же эффект.
Правду или нет говорили об убийственной силе моего отца – не знаю. Он был очень крупным, сильным, ростом в метр девяносто пять, и на пляжных фотографиях того времени на его теле – почти ни жиринки. Глаза у него были маленькие, но пронзительные, а когда он стискивал гигантские зубы и голос у него становился до хрипоты низким и мощным, то и правда внушал страх.
Помню один беззаботный вечер перед войной. Отец только-только вернулся с работы. Я сидела у матери на коленях, а она расчесывала мне волосы. Отец подхватил нас, перекинул через плечо, смеялся и называл своим «лишним багажом». Помню, как приятно будоражило меня его внимание и как страшно было, что всё привычное вокруг вдруг сделалось кро-бо-со, вверх тормашками.
Во время войны отец почти не появлялся дома по вечерам, разве только в выходные, поэтому наказание в целом бывало неотвратимым и немедленным.
По мере того, как война затягивалась, в руки Черным людям попадало всё больше денег, и дела с недвижимостью шли у отца всё лучше и лучше. После расовых волнений 1943 года местность вокруг Ленокс-авеню и 142-й улицы стала известна как «помойное ведро» Гарлема. Наша семья переехала «вверх по холму» – по тем самым холмам, которые мы с сестрами преодолевали летом, чтобы разжиться комиксами.
8
Когда я была маленькой, мне казалось, что в жизни есть два самых ужасных состояния: оказаться неправой и быть разоблаченной. Разоблачением, а то и уничтожением грозили ошибки. В доме матери места им не было – никакого пространства для неверного шага.
Я со своей жаждой жизни, одобрения, любви, участия росла Черной, повторяя за матерью то, что было в ней неутоленного. Я росла Черной, как богиня Себулиса, которую открыла для себя в прохладных земляных залах Абомея потом, несколько жизней спустя, – и такой же, как она, одинокой. Слова матери учили меня разным видам лукавства, отвлекающих маневров, извлеченных из языка белых мужчин, из уст ее отца. Ей приходилось прибегать к этим защитным действиям, благодаря им она выживала и в то же время потихоньку из-за них умирала. Все цвета меняются и становятся друг другом, сливаются и разделяются, растекаясь радугами и петлями.
Я лежу во тьме подле сестер своих, но на улице они проходят мимо меня, оставляя неузнанной и непризнанной. Сколько в этом притворства самоотречения, превратившегося в бесстрастную защитную маску, а сколько запрограммированной ненависти, которой нас пичкали, чтобы мы держались подальше – почаще, частями?
Помню, однажды – я тогда была во втором классе – мать ушла за покупками, а сестры говорили о ком-то, кто был Цветным. Как положено шестилетке, я ухватилась за возможность выяснить, что это значит.