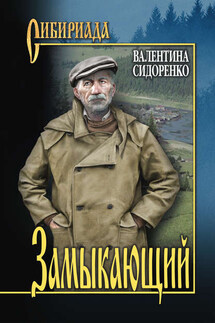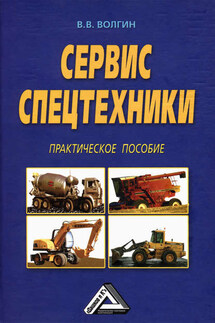Замыкающий (сборник) - страница 59
Петр Матвеич допил воду в ковше, утер мокрые усы.
– Может, и не рожали тебя. Капустница, может. А?
– Ну, ладно. Сама разберусь. – Она повернулась к нему тоненькой спинкой. Петр Матвеич грустно подумал: «Хвалится годами, а сама девчонка-девчонкой. Бабьего – ни тела, ни рассуждения!» Его Тамарка точно такая же. Баба нерожавшая, одинокая – не баба. Хоть сто ей лет стукни. Заготовка… Он вздохнул и пошел на огород. Но работать не хотелось. Едва доладил забор. Уже подумывал за стайки браться – снести рухлядь эту на дрова, чтобы свет пошел к Надьке в дом, но руки не лежали на инструменте.
Как-то там Нюраха? Он думал о том, как тяжело ей сейчас без него. Мало того, что на одну ее пенсию не разбежишься, а она, поди, Юрке посылку все одно спровадила, да еще огород теперь одной тянуть. Воды сколь таскать надо! Так думал он, маятником мотаясь по чужому двору и поглядывая на небо. Лето после долгих холодов пришло сразу – в один день, и запалило так, что, думали, сгорят всходы. Но жары приносили грозы и ливни, и всходы окрепли. Вечера были светлые, длинные, ночи высокие и короткие, и комары не давали житья. Хлопая себя по шее и рукам, Петр Матвеич наконец сам понял, чего он ждет. Потемну он вышел со двора и пошел, стараясь тулиться к палисадникам, чтобы не быть на свету. Наконец завернул в проулок и пошел свободнее, но у самого колодца наткнулся на целующуюся парочку, встал и поперхнулся. Голубки разомкнулись на минуту и пропустили его. Проходя, он узнал дочку шофера из гаража, Федорова, и очень удивился – это когда ж она выросла?! За проулком уже виднелся его дом, окно светилось. Увидел свет своего окна и заволновался. Сердце колотилось, как у молодого. Подошел к калитке, торкнулся, и калитка приотворилась. Петр Матвеич с досадой заметил, что Нюраха не заперла калитку на ночь. Видно, как воду носила из ручья, так и не заперлась. Забываться совсем стала. Мало ли кто войдет во двор?! Кабыздошка робко тявкнула, но, узнав хозяина, завиляла хвостом. Петр Матвеич потрепал ее жиденькую гривку и встал напротив окна в кустах. Он знал, что его не видно из дому. Нюраха сидела у стола и, водрузив очки на нос, пыталась вдеть нитку в иглу. Это ей не удалось. Она сняла очки и долго, не шевелясь, смотрела перед собой. Потом вдруг вздрогнула и повернулась к окну, глядя прямо на него.
Дыхание у Петра Матвеича остановилось. Кто бы ему сказал хоть полгода назад, что он будет стоять, как вор, в своем дворе, глядя на свою бабу и тосковать по ней так, как не тосковал в молодости. Нюраха с каждым днем все отдалялась от него. И чем больше убегало этих дней, тем сложнее было примирение. И чем дальше, тем запутаннее становилась их жизнь, такая уже ясная до конца, пережитая, вся их, вдруг искривилась и пошла путать и рвать перед концом…
– Нюраха, – сказал он в темноте, – эх ты, Нюраха, Нюраха.
Он увидел в окне, как она пошла к двери, и присел под кустом, прижимаясь к забору. Она вышла на крыльцо, и Кабыздошка подбежала к ней, а она стояла и всматривалась в темноту ограды. Потом вздохнула, поглядела на небо, вынесла Кабыздошке хлеба и ушла в дом.
«Так и не заперлась», – сердито подумал Петр Матвеич. Он пробрался к калитке и заложил ее изнутри. Потом вышел в огород. Потрогал грядки. Они были мокрыми. Перемахнул через огород, как молодой, и пошел по пустынному переулку. Шел с размаху, не разбирая дороги, и потом почуял горячее на щеках. Пальцами нащупал слезы и изумился им. Потому что он раньше не плакал. Даже на судах Юрки не плакал. «Вот ведь как баба нутро рвет, – думал он, утирая слезы рукавом, и ему было легче от слез. – Видала бы она меня сейчас. Все ей казалось, что не любил ее. А счас и свет не мил без нее становится, и жизнь не нужна».