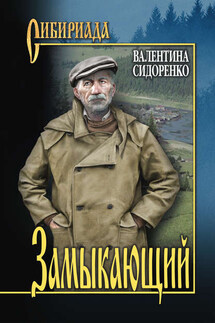Замыкающий (сборник) - страница 67
– Подожди, Нюр. – Он догнал ее на улице. – Я хотел спросить тебя.
Она остановилась, молча глядя ему в лицо холодными, равнодушными глазами. Это равнодушие подсекло его. У него одеревенел язык.
– Ну, это… Как картошку-то – выкопала?!
– А тебе че до моей картошки? Боисся с голоду со своей подохнуть?! Со столовой принесет…
Она говорила с ним просто, без прежнего сердечного надрыва и ревности, как чужому, как соседу, с тусклой и холодной усталостью. Затянула потуже платок и пошла от него вдоль дороги, тяжело шаркая резиновыми сапогами. Грузная, не похожая на себя, постаревшая и бесцветная.
Она уходила от него, чужая, совсем чужая, так, как ходят женщины, которым все равно, нравятся они или нет, и он, похолодев, понял, что это все, конец. Полный разрыв. Земля медленно поплыла у него под ногами.
«Что я, дурак, про картошку? Надо было про Юрку спросить…» Но земля плыла и плыла, отдаляя тяжелую страшную ее фигуру, а потом подступила к сердцу какая-то сладость, смешанная с болью, которая нарастала, нарастала, вместе с темнотою…
Иногда сознание возвращалось к нему, и тогда он видел окно с белыми занавесками и синее небо с нежными взбитыми облаками. Иногда это окно заслоняли белые фигуры. Кто-то садился рядом с ним и что-то говорил, но Петр Матвеич был совершенно равнодушен к этим фигурам, занавескам, разговору вокруг него, только этот синий манящий клочок бездны вверху окна волновал его, и тогда он вспоминал Нюраху, и сердце его плакало от того, что он может не успеть оправдаться перед ней и сказать ей, что он, конечно, виноват, но совсем не так, как она думает…
Потом он снова проваливался в темноту. Так он жил между двумя безднами – черной и синей, и, может быть, черная перетянула бы его, но молодой врач, у которого Петр Матвеич оказался первым инфарктником, стал его врачом и сиделкой. Он боялся смерти своего пациента, обзвонил все городские клиники и очень старался. Конечно, надо было еще жить. Для Нюрахи, Юрки и Тамарки, и он выжил. Когда Петр Матвеич окончательно пришел в себя, за окном темнел голый лес, только рыжели лиственницы и чернели сосны. «Значит, октябрь», – подумал он и больше не интересовался временем. Он долго, в общем, ничем не интересовался: ни суетой вокруг себя, ни лечением, ни где он, ни о том, что с ним случилось… Только смотрел и смотрел в меняющуюся синеву неба и наглядеться на него не мог. И если он думал, то только о Нюрахе и все гадал, увидит он ее или нет. Жизнь, однако, вытягивала и затягивала его. Однажды проснувшись ночью, он удивился, что все время один в палате. «Неужели меня никто не навещает?» – изумился он и так расстроился, что едва дотянул до утра.
– Кто ходит, что ль, ко мне? – спросил он утром пожилую нянечку, убирающую в палате.
– А как не ходят! – ответила она, шаркая шваброй. – И жена бывает. И дети… Дочери были. Из гаража делегации бывают… Пигалица твоя бегает… Требует, чтоб пустили. Да никого не пускают пока. Сказали нам, пока исть не будет, никого не пускать…
– Дак ты мне дай поесть-то!
– Вон у тебя полная тумбочка всего…
Дня через три ему разрешили свидания. Он волновался с утра, просил няню достать ему бритву и зеркальце. Няня долго ерепенилась: мол, родной бабе ты всякий свой и хорош. Лишь бы живой был. Но все же поскребла по мужской палате и принесла все, что надо. Петр Матвеич тщательно побрил исхудалые щеки и, глядя на себя в зеркальце, вздохнул: постарел, исхудал жених-то…