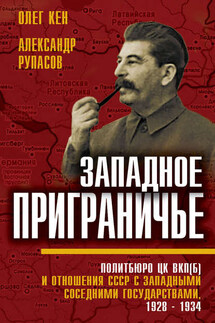Западное приграничье. Политбюро ЦК ВКП(б) и отношения СССР с западными соседними государствами, 1928–1934 - страница 53
После того, как к советскому пакту с Финляндией добавились конвенция о согласительной процедуре (22 апреля) и договоры ненападения с Латвией (5 февраля) и Эстонией (4 мая), а женевское посредничество польских дипломатов разбилось о неуступчивость Бухареста, Пилсудский санкционировал подписание пакта с Советами (25 июля). Завершение «пактовой кампании» зависело не столько от перелома в позиции Румынии, сколько от готовности Варшавы и Парижа признать, что советская дипломатия сделала все от нее зависевшее для политического соглашения с нею; в Москве преобладало мнение, что «пакт с Румынией самостоятельной ценности для нас никогда не имел и не имеет», и представляет интерес главным образом с точки зрения «заключения пактов с Францией и Польшей»[292]. Обещая заключить пакт с Румынией на оговоренных ранее компромиссных условиях, если Бухарест в течение четырех месяцев выразит такое желание, Москва 23 ноября заключила согласительную конвенцию с Польшей, а 29 ноября договор о ненападении и аналогичная конвенция были подписаны с Францией.
Двенадцатимесячные переговоры с соседними государствами крайне фрагментарно отразились в решениях Политбюро 1931–1932 гг.; вопросы заключения договора ненападения между СССР и Финляндией вообще не упоминались в его протоколах. Отчасти это может быть объяснено необходимостью для советских руководителей немедленно реагировать на переговоры, проводимые в иностранных столицах. Однако главным образом фактическое изъятие проблем политических переговоров с соседями из коллективного ведения Политбюро было связано с перенесением их в образованные в ноябре 1931 г. комиссии Политбюро. В одну из них вошли Генеральный секретарь ЦК ВКП(б), Секретарь ЦК, руководивший Оргбюро и Секретариатом, и Председатель СНК СССР, в другую («по советско-польским делам»), – наряду со Сталиным и Молотовым, нарком Литвинов и член Коллегии НКИД Стомоняков[293]. Хотя основная причина создания этих комиссий может быть установлена лишь предположительно, организационные соображения вряд ли играли определяющую роль. Осенью 1931 г заседания Политбюро стали ареной жесткой полемики, на которой вскрывались разногласия НКИД (и внутри его Коллегии) с руководством Политбюро относительно поворота руля советской внешней политики в сторону нормализации отношений с Польшей. Тактические расхождения имели стратегический подтекст, акцентированный инициативой Сталина о создании особого Бюро международной информации, главной задачей которого было независимое наблюдение за ситуацией в Восточно-Центральной Европе, прежде всего в треугольнике Москва – Варшава – Берлин[294]. Сдержанная публичная реакция советского руководства на политические соглашения СССР с западными соседями скорее камуфлировала, нежели подтверждала их действительное значение для международной политики СССР.
Переговоры о Московском протоколе, начатые СССР с целью помешать формированию прибалтийского блока под эгидой Польши и расшатать ее союз с Румынией, завершились торжеством принципа «круглого стола». В пактовую кампанию 1931–1932 гг. советская дипломатия вступала нехотя и с открытыми глазами, понимая, что избежать «юнктима» невозможно. Однако ее окончание знаменовало фактическое поражение линии Варшавы на удержание единого дипломатического фронта, ее ближайший союзник сказался в изоляции. Польша дорого заплатила за укрепление своего «тыла» перед лицом германской угрозы. С другой стороны, договор СССР с Францией не только нормализовал их политические отношения, но и знаменовал движение Москвы к защите европейского статус-кво