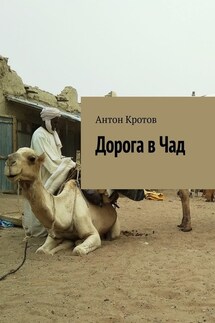Запретные страсти великих князей - страница 32
В Кобурге Анна рассказала о своих планах родным, но, увы, поддержки не нашла. Они в первую очередь думали о репутации семьи, о том, что в случае развода лишатся финансовой поддержки из Петербурга. Расстроенная Анна Федоровна уехала лечиться на воды. Вскоре о ее намерении узнал Павел I. Его гневу не было предела, и он приказал невестке немедленно возвращаться в Россию. Деваться бедняжке было некуда – родители предали ее; у нее больше не было дома…
В этом месте позволим себе маленькое отступление. Молодые люди, вступая во взрослую жизнь, должны знать, что уезжают ли они, женясь или выходя замуж, в другие города или страны, у них всегда есть крепкий тыл – родительский дом. В жизни всякое может случиться. И ты в любой момент можешь туда вернуться. Там тебя накормят, обогреют, погладят по головке, посочувствуют; ты сможешь поплакаться на груди отца или матери. Ведь для родителей ты до конца жизни будешь оставаться ребенком, найдешь в них сочувствие и понимание. Родительский дом, будь то жалкая хибара или роскошный дворец (неважно), крепок именно своими семейными узами. А у Анны Федоровны, как оказалось, такого дома и не было – забота о репутации и финансах перевесили заботу о благополучии дочери. Было в то время Аннушке всего 18 лет. Ей было страшно сознавать, что родители не сумели понять, как ей тяжело живется с мужем. Через семь месяцев Анна вернулась в ненавистную ей Северную Пальмиру.
А Константин Павлович, проделав вместе с Суворовым Итальянский, а затем и тяжелейший Швейцарский походы, вернулся на родину победителем. Этому способствовала отличная аттестация, данная ему генералиссимусом. Правда, у Константина было одно прегрешение. Однажды он вмешался в управление отдельным отрядом русских войск, и они вынуждены были принять бой на невыгодных для себя условиях. Не менее сумасбродный, чем сам Константин, А. В. Суворов вызвал того к себе и с глазу на глаз выразил свое неудовольствие и даже пригрозил ему военным судом и Сибирью. После этой взбучки Константин вышел от Суворова заплаканным и до конца кампании вел себя вполне достойно. Он лично водил в атаку войска, не кланялся пулям, свистевшим над головой, грамотно распоряжался артиллерией. Константин в бою вел себя мужественно и храбро. Чувствовалось, что война – это настоящее его призвание, несмотря на пристрастие к вахтпарадам и шагистике на плацу. Он нес наравне с солдатами все тяготы службы, совершал тяжелые переходы пешком и вообще показал себя образцом доблести и геройства.
Александр Васильевич поступил как настоящий командир – отругал его за конкретный проступок; посмотрел: дальше великий князь исправился – так зачем же выносить сор из избы? И дал ему отличную характеристику. Напомним, что Константину Павловичу во время этих походов, принесших мировую славу русскому оружию, было всего-навсего 20 лет. Император Павел I обрадовался успехам сына (вот она, «военная косточка!»), наградил его алмазным Мальтийским крестом и назначил командиром лейб-гвардии Конного полка. Более того, считая, что невероятные победы в швейцарских Альпах – это прежде всего заслуга Константина, присвоил ему титул цесаревича. Хотя, по правде говоря, цесаревичем (то есть наследником престола) был Александр, его старший сын. Это было нелогично, но что возьмешь с сумасбродного императора?
После возвращения из похода для Константина Павловича продолжилась прежняя военная жизнь, занятая учениями, смотрами, плацпарадами и муштрой. В конце 1800 года император отправил сына инспектировать войска, стоявшие на границе с Австрией. В городе Ровно он познакомился с семейством князя Любомирского и стал часто бывать в их доме. Ему понравилась дочь князя Елена. Встречи с ней происходили все чаще и чаще. Наконец, Константин Павлович влюбился в княжну. И влюбился по-настоящему! Оказалось, что этот грубиян, сквернослов и забияка способен на светлые чувства! Пришло время возвращаться в столицу, но мыслями он был в Ровно, рядом с любимой.