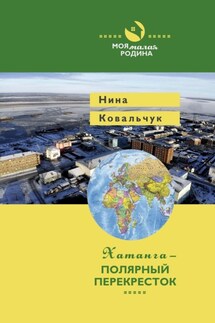Зауряд-полк. Лютая зима - страница 58
– Вы что это такое позволяете себе, прапорщик?.. Нет, я больше этого терпеть не намерен!
– Что такое не намерены? – удивился Ливенцев тому, что полковник Чероков поднял такую тревогу из-за восьмерых немцев на посту у речки, и так и спросил: – Ведь вы, конечно, о немцах, но это…
– Немец он, или грек, или русский – это вас не касается! Но он – штаб-офицер, а вы всего-навсего прапорщик! – отчетливо и почему-то без всяких запинок проговорил Полетика, и Ливенцеву стало ясно, что вызван он для разбора вчерашнего случая с Генкелем.
– Все зависит от того, – сказал он, – как вам передал это Генкель, господин полковник.
– Как это так – «как передал»! Что же, он мне врал, что ли? Он говорил, что вы ему руки не подали. Это правда?
– Правда, не подал.
– Ну вот! А говорите тоже: «зависит»! Что зависит? Что такое зависит? Идите в штаб и скажите там, что я сейчас же приду.
Ливенцев пошел вперед, но, оглянувшись, увидел, что командир никуда не заходит по дороге, а идет за ним следом, намеренно не спеша и отставая. Нетрудно было понять, что он не хочет входить в штаб дружины с ним вместе. Ливенцев припомнил, что не поздоровался радушно, как всегда, с ним Полетика, – значит, в деле его с Генкелем он на стороне Генкеля, а не его, значит, пьяница поручик Миткалев, пропивший в карауле деньги арестованных, для него, Полетики, ближе и дороже, чем он, Ливенцев, который исправно несет свою службу, не пьяница и не вор. Миткалева всячески выгораживал он, Полетика, а его приготовился утопить.
И Ливенцев подобрался весь, как это бывало с ним всегда при оскорблении, на которое надо было ответить оскорблением же, но уничтожающим, а не царапающим поверхностно, иначе перестанешь уважать себя как человека.
Это было основное в Ливенцеве. Раскидчивый и мягкий, временами просто наивный до детскости, способный приглядываться к человеку, чуть не вплотную придвинув к нему лицо, Ливенцев очень быстро сжимался весь до большой твердости, костенел, как кошка перед прыжком на добычу, и в то же время находил в себе ясные, четкие, резкие слова и очень звонкий, металлического тембра голос. Главное же, тогда он совсем забывал о себе как о физическом теле: исчезала его личная вещественность, та именно часть его существа, которая чувствовала боль от удара и была всегда недовольна тем, что человек смертен. Так чувствуют себя люди, которые под огнем противника – штыки наперевес или шашки наголо – идут в атаку.
И когда вошел он в канцелярию, очень твердо, преувеличенно по-строевому, как на параде, ставя ноги и стискивая зубы, он удивился тому, что приказист Гладышев, стоя около вешалки, сказал ему вполголоса к будто встревоженно:
– Офицерский суд над вами будет, ваше благородие.
Ливенцев усмехнулся, слегка ударил пальцами приказиста по плечу и сказал уверенно:
– Ну, какой там суд! Пустяки! Глупости!
И только что отворил он дверь командирского кабинета, сзади его раздалась совсем невоенная команда писарям унылым голосом зауряд-Багратиона:
– Встать! Смирно!
Ливенцев понял, что это вошел Полетика, но обернуться поглядеть на него не захотел.
И как когда-то судили поручика Миткалева за то, что считалось настоящим и подлинным преступлением, даже и с гражданской точки зрения, не только со стороны строгого устава гарнизонной службы, так теперь собрались судить прапорщика Ливенцева за то, что отказался подать руку явному мерзавцу.