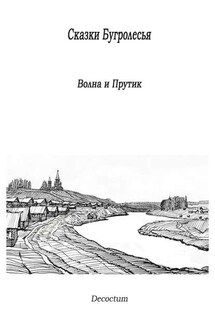Завещание Мишель - страница 3
Принятое однажды решение двигало Антона к намеченной цели. Он без устали записывал все свои рассуждения, когда и как придется. «Вот это умение или, скорее, желание Майкла говорить, болтать по пустякам» – думал он, – «Исключает ли оно способность глубоко мыслить, рассуждать, обобщать, делать выводы?» Да, наверное, Майкл часто говорил о всякой житейской ерунде, но, Боже, как же иногда хотелось Антону вставлять эту болтовню в сухие диалоги его книжных персонажей, чтобы оживить их, придать им динамики, приправы, щекочущей нервные окончания. Майкл всегда утрачивал интерес к философским беседам где-то между салатом и горячим. Казалось, он слушает тебя, прищурившись, проникая в твои тайные мысли, а потом вдруг отпустит плоскую шуточку на счет внешности официантки. На каком этапе прерывалась цепочка мыслительного процесса? Когда, в какой момент расставлялись акценты, меняющие жанр пьесы под названием жизнь? Два творческих человека (Антон всегда знал, что Майкл – натура более творческая, чем он сам) думают об одном и том же яблоке, лежащем перед ними в вазе для фруктов. Почему один из них берется за кисть, а другой за авторучку? Какими категориями мыслит каждый из них? Допустим, один вспомнил детство, соседский сад, куда ребенком забирался, чтобы надкусывать недозрелые плоды. Другой, возможно, вернулся внутренним взором в прошлую ночь, когда перекатывал краснобокое яблоко по обнаженному телу возлюбленной. Да мало ли что может вспомниться. Вопрос в том, почему каждый из них прибегает к разному языку? На пути от рождения мысли, оформления ее в некий образ до выбора способа внешнего выражения есть какой-то рычаг, кнопка, какой-то стрелочник, распределяющий потоки. Или изначальный момент возникновения идеи уже имеет аутентичную форму, соответствующую ментальным способностям индивидуума? Антон мог часами рассуждать о живописи, находя сотни неповторяющихся синонимов. Почему этого зачастую не умеет сделать сам художник? И почему этот же бессловесный художник, дюжиной движений кисти замарав холст, скажет зрителю гораздо больше, чем писатель, без умолку заполняющий словами лист бумаги? Антону хотелось бы взять карандаш и нарисовать яблоко, но он почему-то начинал его описывать. Возможно ли, рассказав человеку лишь на словах о картине Мунка, донести до него ощущение того, как маслянисто раскрашенные спагетти нервов вращаются, наматываясь на вилку; как душераздирающий крик создает энергетическую воронку, черную дыру, в которую вот-вот перетечет кроваво-красное небо, дорога с двумя тщетно сопротивляющимися силе этого притяжения пешеходами, да и сам кричащий скоро окажется внутри собственного отчаяния, без остатка поглощенный им? От кого это зависит: от рассказчика (писателя) или от слушателя (читателя)? Третьего, наверное, не дано. Ведь Мунк явно не пожелал бы, чтобы о его работах судили, не увидев их воочию. Тогда кто ответственен в этом диалоге за точность создаваемого образа? И что будет причиной несоответствия: недостаточная изобразительность словесного языка автора или слабые имагинативные способности читателя?
Эти мысли, как и многие другие, кольцами обвивались вокруг шеи, не давая дышать. Порой он не мог проконтролировать, в какой момент они начинали пульсировать где-то чуть левее основания черепной коробки, сдавливая ее. По всему дому он выключал раздражавший его свет, не мог слушать музыку, хотя обычно под нее хорошо работалось; перетягивал голову мокрым полотенцем, горстями глотал анальгетики, накладывал лед на пытающийся вывалиться наружу глаз. Лед таял и стекал за шиворот. Прижимал к скуле холодную бутылку белого вина, массировал шею и левую часть головы. Мало что помогало. Антон не спал сутками, всю ночь мог простоять у окна, прижавшись к нему лбом с такой силой, что чуть не выдавливал стекло. Часто под утро обнаруживал несколько десятков листов бумаги на рабочем столе, не помня, когда и как он умудрился что-то на них написать. Мигрень, вероятно, сама бралась за авторучку и только после этого отступала.