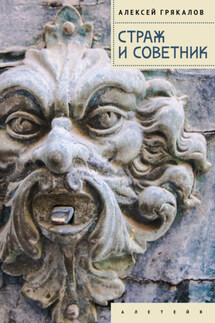Здесь никто не правит (сборник) - страница 10
Как по украински кит? – на Украине киты не водятся.
А какое сегодня кино, уже известно – подводные лодки в степях Украины.
А какое завтра?
В ериках Верхнего Дона, в еще не распаханных землях Красноселовской слободы, в окопах Химченкова хутора, со взлобков меловых гор сверху вниз и снизу из сырых ущельиц выползал на брюхе местный природный страх.
А жучка всегда к сильному.
Телесным ущемленным потоком расползаются от майдана.
И от нынешних страхов спасаюсь прежним, чтобы приручить. Прошлое не так страшно уже – вот рога волов покачиваются из-за бугра, соломенный самодельный бриль на черной голове погоныча – свитка свернутая надета на рог, скрипит колесо, чека сейчас выпадет, качнувшаяся вбок арба вырвет сидевшего на передке переселенца из объятий кратчайшего сна.
Из прерванного чужого давнего-давнего мгновенно схватит меня.
3. Амазонки и Нюрочка
Лопнет шина на скорости в сто сорок верст в час – мгновенно кинет на встречку. Кто-то из хмары небесной согласно кивает сверху: никогда, никогда, знай теперь, никогда!
Никогда, ангелу лучше знать.
И молодую из песни с невыветрившимся запахом дуста никогда до самого дома ласково никто не доведет. Хоть и мужа нет, хоть и некому ее бить.
Во всех временах одинакова Нюрочка – сейчас под подтеканье мелкого дождичка навстречу, шпагат вместо резинки в трусах затянут, чтоб кто не сдернул на смех. И желанно любовно ждет… на перине за всю девичью пору почти ни разу, то на траве, то в яслях на соломе, смешанной с сеном, пахнет сухой цветочек, то стоя, выгнуто напряженно, руки уже затылок мой голый гладят. Достаются одни стриженые, кто с войны, кто на войну, случайный родной, случайный… родной, некому больше приласкать Нюрочку. Только на скорую ногу! А ручку невиданно бы к губам, сейчас подношу, она недоверчиво не дает поцеловать в запястьице – там у людей нежно у всех. И вчера некому, а завтра только сегодня. И вчера сегодня, и сегодня завтра, непрерывный день-ночь, повторяю вслед блаженному из пещеры, что существует на свете всего один-единственный настоящий день. Шпагат врезался в почти неразличимую талию, сейчас брызнет горячим… хлопчик перегорел, влажное и горячее потечет по ляжкам.
Сама себе оплодотворение.
Нюрочка… Нюра!
Хоть бы не на молчок.
И откуда имена у одной разные? Анна, Ганна, Ганнуся! Нюся, Нюра… Нюрка-Нюрка, дурной рад цуцурка! Трясется в люботе красноокий крольчак… крольчонок еще. А если первая у него, до самой смерти запомнит? Первая Нюрочка. Может, вернется? – шепчет, пока перетекает влажным горячим.
Ночь апрельская возле воды с плывущими кригами.
Горячее частое дыхание в ухо, хоть бы словцо! Уж отстранился: закурить, Нюрка? Сопит крольчок-бычок. Пора к лодке, случайно кинокартина про партизан свела, молодняк войне будто бы подучивается – почти никто рождения двадцать второго года не вернется домой.