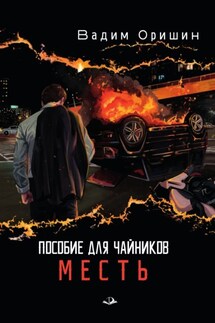Земское самоуправление в истории России: К 150-летию земской реформы - страница 22
В общеевропейском масштабе эти воззрения представляли собой отражение более ранней политической культуры. В британской элите еще оставались ее приверженцы. В Германии «феодальная» партия, вдохновляемая идеями Р. Гнейста, выступала поборником такой системы английского самоуправления («self-government»), которая наиболее подходила к ее предвзятой идее о представительстве – а именно – о роли крупного землевладения. Либеральная партия, напротив, приветствовала реформирование английской системы самоуправления и участие в выборном представительстве «промышленного» класса. Правовед А. Е. Назимов замечал по этому поводу: «От введения английского self-government’а континентальные политики ожидали умерения социальной розни и смягчения бюрократического абсолютизма»[90]. Говоря о причинах, по которым он не считал возможным построить все местное управление «исключительно на выборном начале», К. Д. Кавелин писал о «совершенном отсутствии привычки к самоуправлению» в России. «Комбинация» Кавелина – «организация местных учреждений, состоящих из коронных чиновников и выборных, на равных правах»[91].
От общих рассуждений о зле административной централизации (токвилевский аспект) русское общественное мнение эпохи реформ избирательно двигалось в направлении поиска (с учетом европейского опыта) вариантов и даже образцов для развития учреждений самоуправления в своей стране. Ввиду того, что российские реформы осуществлялись мирным путем и «сверху», революционное творчество Франции казалось неприемлемым. В исторической перспективе самодержавной России ближе всего будет опыт монархической Германии (Пруссии). Неослабное внимание к реформированию местного самоуправления в Пруссии в 1870-е гг. сопровождалось в русской печати неизменным вопросом: «вписываются» ли российские реформы в европейский опыт. «Сильная конституционная монархия в Пруссии уживается с бо́льшею долею самоуправления, чем народодержавная Франция», – приведенное утверждение А. Д. Градовского является в известной мере лейтмотивом его большой работы «Системы местного управления на Западе Европы и в России»[92]. Ведущее место в этом сопоставлении занимал анализ английской, французской и германской (прусской) систем. Введение земств и принятие Городового положения 1870 г. придавало стремлениям либеральной общественности усовершенствовать российские институты местного самоуправления легитимный характер. Не столь робко и завуалировано, как прежде, в преддверии реформ, обращались к европейскому опыту. Наблюдатели отмечали схожий характер преобразований в обеих консервативных монархиях, отношения между которыми в силу династических и военно-политических связей были весьма тесными. Особенностью России, как, впрочем, и Германии, станет раздельное реформирование городской и сельской (земской, областной) сферы местного управления[93].
Известно, что опыту земских учреждений в России особое внимание уделял О. фон Бисмарк[94], и этот опыт оказал влияние на установление системы местного самоуправления в Германской империи в 1870-х гг. В 60-е гг. XIX в. великая княгиня Елена Павловна вела переписку с А. Гакстгаузеном. Он описывал свои переговоры с главой издательской фирмы «Брокгауз» по поводу его книги «О системах народных выборов». К работе были привлечены крупные немецкие ученые, профессора Гнейст, Менцель, Хельдь и др.