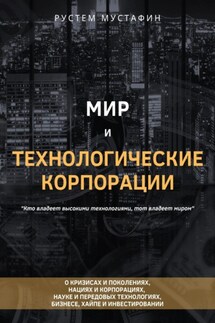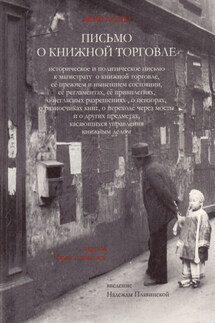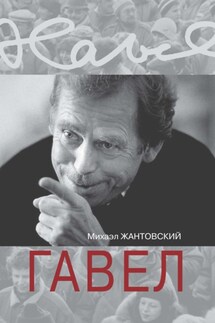Жак-француз. В память о ГУЛАГе - страница 14
Что до Марсина Х., по происхождению он немецкий еврей, его семья родом из Берлина; в конце XIX века, когда Польша принадлежала России, члены этой семьи покупали земли, фабрики, заводы вблизи Варшавы и Лодзи. «Польский отец» – один из тех крестившихся и ассимилированных евреев, пылких патриотов Польши, которые были резко против российского владычества. Тетка была протестанткой, ее брат – католиком, оба они ратовали за свободную Польшу, а мать Марсина Х. была одной из тех женщин, что вышили знамя для подразделения польских повстанцев во время восстания 1863 года против власти русского царя. Маленькому Жаку с гордостью показывали это знамя, уникальный экспонат, хранившийся в варшавском музее.
Через почти восемьдесят лет после событий, разлучивших его с его «польским отцом», Жак, несмотря на то что между ними никогда не было ни близости, ни взаимопонимания, отдает должное человеку, который всегда относился к нему «корректно» и не жалел денег на его образование. А от французского отца, о котором он, возможно, знал от матери, ему достались только имя и фамилия, а также, если верить Жаку, что-то итальянское в лице. Эти отрывочные сведения – всё, что упоминается в рассказах Жака о фигуре отца, о котором он столько мечтал.
3. Судьба мирового пролетариата важнее вашей карьеры!
Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах. Иной мнит себя повелителем других, что не мешает ему быть рабом в большей еще мере, чем они.
Жан Жак Руссо
«Я признал авторитет коммунистической партии, марксизма, учения Маркса и Энгельса. Кстати, Энгельс мне нравился больше Маркса, потому что я лучше его понимал, а кроме того, философский и этнологический аспект интересовал меня больше, чем экономический. Таким образом, я выбрал себе наставника. И как бывший правоверный коммунист я сразу же должен покаяться: правоверный коммунист не выбирает себе наставника по своему вкусу. Он чтит марксизм-ленинизм и не задает вопросов. Впрочем, я ничего и не выбирал. Это меня выбрали.
Всё случилось сразу после Майского переворота Пилсудского в 1926 году, мне тогда было не то шестнадцать, не то семнадцать. Коммунистическая партия была вне закона, а в подпольную, нелегальную партию просто так вступить невозможно. Такая партия сама высматривает людей, которые достойны и способны вступить в ее ряды. Это как у масонов. Так на меня и вышли».
Подростком Жак начинает острее воспринимать окружающее. Вырвавшись из тесного семейного мирка, где поле его наблюдений над обществом ограничено прислугой и крестьянами, он вглядывается в большой мир. Когда он был еще в лицее, его пригласил к себе домой один соученик, сын водителя трамвая. Школа была общедоступная, состав учеников социально неоднородный. Жак с удивлением обнаружил, что у семьи вагоновожатого только две комнаты, что гостей принимают на кухне, а трое детей спят в одной комнате. Но главное, в квартире ужасно пахнет, изнеженному мальчику нечем дышать: «Знаешь, там туалет был прямо на лестнице…» Одноклассник объяснял ему математику, которая Жаку не давалась.
И постепенно у него открываются глаза. По примеру юного Будды, которым позже будет восхищаться, Жак удирает из обширного сада, окружающего родительскую виллу (ее можно приравнять к дворцу), и открывает для себя реальную жизнь. Этот никудышный ученик не только набирается жизненного опыта, он еще и пожирает книгу за книгой в отцовской библиотеке, просторной комнате, уставленной книжными шкафами; «даже самые некрасивые переплеты» влекут к себе будущего студента Школы изобразительных искусств. Набеги на библиотеку он совершает втихомолку: Марсин Х. не любит, чтобы нарушали порядок в его библиотеке; он хочет, чтобы каждая книга стояла на своем месте на случай, если ему понадобится навести справку во время бесед с гостями за чашкой кофе – например, проверить цитату или установить ее автора. И потом, ему как-то не верится, что мальчишка, получающий такие посредственные отметки, интересуется серьезным чтением. Без ведома отца подросток очень рано прочел Руссо, еще до того, как гувернантка объяснила ему про «установленный порядок», – сперва «Эмиля», а потом «Общественный договор», сформировавший в нем идеал социальной справедливости. А заодно Вольтера и Дидро – этот последний научил его всё подвергать сомнению. «Но по-настоящему я начал сомневаться и отвергать “установленный порядок” после того, как побывал у моего польского друга, сына вагоновожатого, в квартире, где не было ни мягких ковров, ни домашней прислуги».