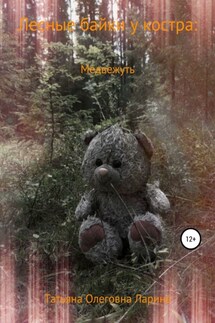Житие Блаженного Бориса - страница 9
– Я знаю, что вам сейчас надо, – сказал он обожженными ветром губами. Кто-то крикнул: «перекурить».
Как бы не так! Распусти вас сейчас, половина приляжет на снег и не встанет.
Тут я заметил, он поставил нас к ветру затылком, а сам встал к ветру лицом, – сразу стало теплей на душе. Подумалось: «Как мало надо, чтобы согреться!?»
По игре мы были приборным взводом. Нам показали места укрытий для техники. Мы знали, как делать разметку: только что сдали зачеты по инженерному делу. Выволокли из кузовов ломики, кирки, лопаты и принялись греться по-настоящему. Поодаль уже трудились (звенели кирками и скребли лопатами) другие – огневые взвода батареи.
К концу ночи, когда уже начало светать (а светало в эту пору поздно) укрытия для приборного взвода фактически были только намечены: Мерзлый грунт был, как камень, а мышцы не были натасканы на такую работу. Огневики уже загоняли орудия в «аппарели». Небольшая глубина их укрытий должна была позволять ведение огня прямой наводкой. У нас мелкий «капонир» допускался для прибора с большим оптическим дальномером, чтобы не мешал бруствер. Что касается станции орудийной наводки, у нее над поверхностью должна была подниматься лишь расположенная на крыше параболическая антенна. Употребление выражений «аппарель» и «капонир», вместо слова «укрытие», являлось лихим сленгом. «Аппарель» – синоним наклонного въезда и выезда. А «капонир» вообще относится к крепостной, а не полевой фортификации. Но в поле слово «укрытие» почему-то казалось до неприличия книжным. Впрочем, разве об этом надо сейчас вспоминать!? Не хочется думать, как мы метались на заднем крылечке у жизни. Не хочется, но не вспомнить нельзя.
Когда уже стало светать, поставив охранение, мы мокрые обессиленные, но согревшиеся работой, по приказу, загнали свои коробки на колесах в едва «обозначенные» укрытия и отправились ставить палатки для себя. Пришли последние. Кругом уже стояли палатки других взводов. А наши – в виде брезентовых тюков лежали на снегу. Когда начали разбираться, оказалось, брезент во многих местах порван. И если центральные колья были целы, то боковые – и колья распорок либо были сломаны либо напрочь отсутствовали. Мы решили на весь взвод (24 человека) ставить одну палатку: в тесноте, но не в обиде. А брезент от второй палатки положили на снег, как настил. В это время привезли завтрак. Мы выстроились в очередь с котелками и кружками у полевой кухни. У каждого была своя ложка. Мы получили вдоволь каши, хлеба, кусочек масла и несколько кусочков сахара. На учениях пищи не жалели – можно было взять добавок. Один из сержантов, чтобы подбодрить курсантов заговорил о птицах: «Если у птиц есть еда, в самую лютую зиму птица не замерзает». «Мы не птицы» – подумал каждый но ничего не сказал.
После еды и бессонной ночи сильно клонило ко сну. Но нас построили и объявили, что если с первыми этапами учения (марш и развертывание) мы, с грехом пополам, справились, то к третьему этапу – «согласованию приборов с орудиями» – мы даже не приступали, хотя по нормативам, уже давно должны были покончить и с этим. Для отдыха времени нет, – через час мы должны быть готовы встретить «противника». Поэтому, на позиции бегом марш! Когда номера расчетов заняли свои места, началось «согласование».
Задача была непростая: добиться, чтобы стволы орудий смотрели ровно в ту точку пространства, куда направлена и ось антенны локатора, и линия визирования дальномера с учетом поправок на дальность, скорость и направление цели, а также на скорость и направление ветра. Для сверки данных, явно не для практики, а для какой-то идеальной выверки, существовали таблицы, говорящие о том, что вся это мышиная возня предназначена не для реального боя, а для многоступенчатого перехода к новой более совершенной технике будущего, до появления которой воздушная война, бог даст, подождет. Я «со своими костяшками счет», сидя на брезенте, в узкой промерзшей щели уже остыл и начал подремывать: сначала мое участие в этой игре, можно сказать, было ничтожным, а потом обо мне просто забыли.